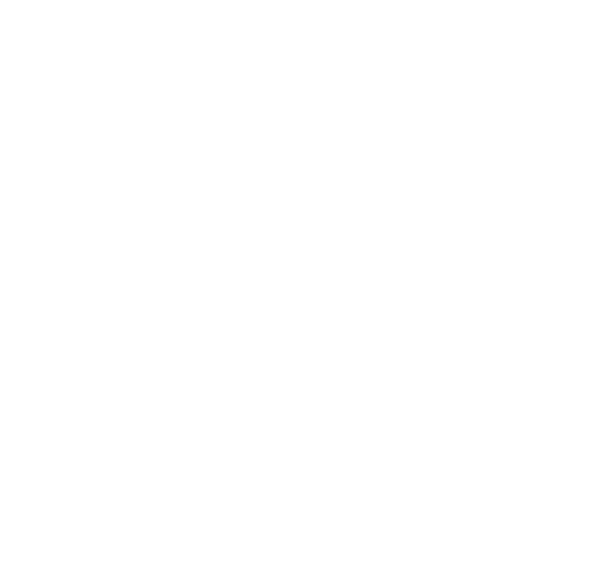П. Мессарис о визуальной грамотности
Описание популярной книги по визуальной грамотности 1994 года
Книга П. Мессариса (Paul Messaris) "Визуальная грамотность: образ, сознание и реальность" ("Visual “Literacy”: Image, Minds, and Reality) 1994 года является признанным, активно цитируемым трудом в области визуальной грамотности.
Аннотация книги
Постиндустриальное общество переполнено визуальными образами. Телевизоры затягивают синей дымкой тёмные гостиные; реклама и билборды окружают каждый наш шаг; фильмы вызывают слёзы, возмущение или веселье; а изобразительное искусство вызывает сильные эмоциональные и интеллектуальные реакции. Практически в каждый момент времени несколько визуальных образов борются за наше внимание, чтобы сделать заявление, продать продукт или призвать к действию. Как мы интерпретируем эти образы, столкнувшись с визуальной перегрузкой? Что происходит, когда изображение вызывает у нас эмоции? Какие процессы происходят в нашем сознании, когда мы реагируем на такие визуальные приемы, как крупные планы, ракурсы и флешбэки? Эта книга даёт основу для ответа на эти вопросы. Призывая своих читателей стать «визуально грамотными», Пол Мессарис проводит их через четыре основных концептуальных уровня понимания: формирование визуальной грамотности как предпосылки для понимания визуальных медиа; понимание общих когнитивных последствий визуальной грамотности; развитие бдительности к визуальным манипуляциям и понимание эстетической ценности изображений. В совокупности эти подходы дают всестороннее представление о том, как создаются и интерпретируются визуальные образы, и каковы могут быть их потенциальные социальные последствия.
Книги нет в открытом доступе, но есть описание с оригинальными цитатами из нее. Ниже — перевод этого описания из журнала 1996 года (Messaris, P. (1996). Visual “Literacy”: Image, Minds, and Reality. Canadian Journal of Communication, 21(2). https://doi.org/10.22230/cjc.1996v21n2a947).
Аннотация книги
Постиндустриальное общество переполнено визуальными образами. Телевизоры затягивают синей дымкой тёмные гостиные; реклама и билборды окружают каждый наш шаг; фильмы вызывают слёзы, возмущение или веселье; а изобразительное искусство вызывает сильные эмоциональные и интеллектуальные реакции. Практически в каждый момент времени несколько визуальных образов борются за наше внимание, чтобы сделать заявление, продать продукт или призвать к действию. Как мы интерпретируем эти образы, столкнувшись с визуальной перегрузкой? Что происходит, когда изображение вызывает у нас эмоции? Какие процессы происходят в нашем сознании, когда мы реагируем на такие визуальные приемы, как крупные планы, ракурсы и флешбэки? Эта книга даёт основу для ответа на эти вопросы. Призывая своих читателей стать «визуально грамотными», Пол Мессарис проводит их через четыре основных концептуальных уровня понимания: формирование визуальной грамотности как предпосылки для понимания визуальных медиа; понимание общих когнитивных последствий визуальной грамотности; развитие бдительности к визуальным манипуляциям и понимание эстетической ценности изображений. В совокупности эти подходы дают всестороннее представление о том, как создаются и интерпретируются визуальные образы, и каковы могут быть их потенциальные социальные последствия.
Книги нет в открытом доступе, но есть описание с оригинальными цитатами из нее. Ниже — перевод этого описания из журнала 1996 года (Messaris, P. (1996). Visual “Literacy”: Image, Minds, and Reality. Canadian Journal of Communication, 21(2). https://doi.org/10.22230/cjc.1996v21n2a947).
В 1960-х и 1970-х годах структурализм и семиотика доминировали в изучении визуальной коммуникации и в особенности кино. Эти подходы, почти ставшие интеллектуальной модой, рассматривали кино как язык или подобную языку форму коммуникации, не в метафорическом смысле, как в «Грамматике кино» Рэймонда Споттисвуда 1935 года или в аналогичных попытках описать кино как искусство, а в буквальном, лингвистическом смысле. Теоретики и исследователи в конечном итоге пришли к выводу, что существенные различия между визуальным знаком и его языковым эквивалентом делают такую строгую аналогию несостоятельной, но некоторые учёные продолжают рассматривать кино и другие формы визуальной коммуникации как произвольные коды или условности, которые зрители должны усвоить для интерпретации изображений.
«Визуальная грамотность» Пола Мессариса задумана как «противоядие» или корректировка такой точки зрения. Неохотно принимая термин «грамотность» для сферы визуальной коммуникации (поскольку, по его мнению, он применим исключительно к чтению и письму), П. Мессарис рассматривает «четыре относительно разных аспекта этой общей темы» (стр. 3):
При этом он привлекает впечатляющий массив источников из самых разных областей и дисциплин, таких как психология, антропология, коммуникационные исследования, киноведение, эстетика, история искусств, лингвистика, семиотика, педагогика и т.д., — а также тех, которые можно считать по-настоящему междисциплинарными, если не сквозными по своей природе.
Используя подробное, но не техническое объяснение психологом Д. Марром процесса восприятия визуальной информации и соответствующие эмпирические исследования, П. Мессарис показывает, что «изображения воспроизводят многие информационные сигналы, которые мы используем в своём восприятии физической и социальной реальности. Наша способность делать выводы о том, что представлено на изображении, основана в первую очередь на этом свойстве, а не на знакомстве с условными обозначениями» (стр. 165). Более того, он приходит к выводу, что исследования не подтверждают связь визуальной грамотности с общим когнитивным развитием: «Знакомство с изображениями не влечет за собой освоения системы концептуальных категорий или набора аналитических операторов для упорядочивания этих категорий» (стр. 165) — даже в близкой области пространственного интеллекта «эмпирические данные неоднозначны».
Однако для сторонников визуальной грамотности новости более оптимистичны в областях эстетического восприятия изображений и знания визуальных манипуляций. П. Мессарис определяет эти виды визуальной грамотности как «четкое понимание того, как создаётся визуальный смысл», что «может включать несколько относительно различных, хотя и не чуждых друг другу, компонентов, например, понимание методов производства зрительных образов... знание соответствующих прецедентов... и знакомство с критическими комментариями» (с. 138).
«Визуальная грамотность» Пола Мессариса задумана как «противоядие» или корректировка такой точки зрения. Неохотно принимая термин «грамотность» для сферы визуальной коммуникации (поскольку, по его мнению, он применим исключительно к чтению и письму), П. Мессарис рассматривает «четыре относительно разных аспекта этой общей темы» (стр. 3):
- визуальная грамотность как необходимое условие для понимания визуальных медиа;
- общие когнитивные последствия развития визуальной грамотности;
- знания о визуальных манипуляциях;
- эстетическое восприятие зрительных образов.
При этом он привлекает впечатляющий массив источников из самых разных областей и дисциплин, таких как психология, антропология, коммуникационные исследования, киноведение, эстетика, история искусств, лингвистика, семиотика, педагогика и т.д., — а также тех, которые можно считать по-настоящему междисциплинарными, если не сквозными по своей природе.
Используя подробное, но не техническое объяснение психологом Д. Марром процесса восприятия визуальной информации и соответствующие эмпирические исследования, П. Мессарис показывает, что «изображения воспроизводят многие информационные сигналы, которые мы используем в своём восприятии физической и социальной реальности. Наша способность делать выводы о том, что представлено на изображении, основана в первую очередь на этом свойстве, а не на знакомстве с условными обозначениями» (стр. 165). Более того, он приходит к выводу, что исследования не подтверждают связь визуальной грамотности с общим когнитивным развитием: «Знакомство с изображениями не влечет за собой освоения системы концептуальных категорий или набора аналитических операторов для упорядочивания этих категорий» (стр. 165) — даже в близкой области пространственного интеллекта «эмпирические данные неоднозначны».
Однако для сторонников визуальной грамотности новости более оптимистичны в областях эстетического восприятия изображений и знания визуальных манипуляций. П. Мессарис определяет эти виды визуальной грамотности как «четкое понимание того, как создаётся визуальный смысл», что «может включать несколько относительно различных, хотя и не чуждых друг другу, компонентов, например, понимание методов производства зрительных образов... знание соответствующих прецедентов... и знакомство с критическими комментариями» (с. 138).
Изображения воспроизводят многие информационные сигналы, которые мы используем в своём восприятии физической и социальной реальности. Наша способность делать выводы о том, что представлено на изображении, основана в первую очередь на этом свойстве, а не на нашем знакомстве с условными обозначениями.
Изучив данные, связанные с определением искусственности нехудожественных материалов (например, постановки и монтажа) и явных подделок художественных презентаций (например, иллюзий и «невидимого стиля» монтажа), а также анализ и оценку цели или намерения коммуникатора в отношении визуальных манипуляций, П. Мессарис приходит к выводу, что этот тип визуальной грамотности «не дается большинству людей естественным образом [и]... по-видимому, основывается на исключительном опыте или специальном обучении» (с. 164). Более того, он отмечает, что исследования показывают: хотя общее образование в области визуальных медиа улучшает способность распознавать визуальные манипуляции, непосредственный опыт гораздо более эффективен.
Заключительные слова Мессариса в какой-то мере удовлетворяют тех из нас, кто признаёт ценность диалектики теории и практики в медиаобразовании, хотя его последняя оговорка должна заставить всех нас задуматься: «В мире, полном визуальных манипуляций, результаты этого исследования указывают на один из возможных путей повышения осведомлённости зрителей о намерениях автора — обучение производству. Однако даже столь трудоёмкий метод не всегда может быть достаточным» (стр. 183).
Книга П. Мессариса может не понравиться тем, кто привык к тому, что Дж. Кэрролл называл «современной усвоенной мудростью», то есть к пониманию произвольности изображений и необходимости изучения их визуальных кодов для извлечения смысла. Действительно, большую часть времени и энергии он тратит на опровержение идеи о первоначальном непонимании изображений необразованными зрителями и на контекстуализацию трудностей, с которыми сталкиваются дети на ранних этапах когнитивного развития. Тем не менее, П. Мессарис прилагает большие усилия, чтобы подчеркнуть, что пропасть между этой «антиреалистической» концепцией изображений и его позицией является лишь относительной и не является непреодолимой для тех, кто избегает дихотомического мышления. Это обсуждение, а также сопоставление его позиции с позицией «межкультурных различий в визуальной коммуникации», занимают большую часть заключительной главы.
«Визуальная грамотность» — достойный образец академической науки. П. Мессарис хорошо излагает свои аргументы и пишет доходчиво; избегает жаргона и путанных рассуждений, делая книгу доступной для студентов младших курсов или широкой аудитории, не умаляя её ценности для «экспертов» по визуальной коммуникации. Однако порой он склонен излишне осторожничать в изложении своей позиции, допуская ошибки и злоупотребляя фразой «Если я прав...».
Он также несколько вольно обращается с терминологией (учитывая его похвальную заботу о точности языка), одним из примеров чего является визуальный «синтаксис». С другой стороны, у него есть особый талант ясно и живо описывать (аудио)визуальные фрагменты, которые он приводит в качестве примеров и объектов для анализа. Тем не менее, в книге, посвящённой визуальной коммуникации, хотелось бы видеть ещё больше кадров из фильмов, телепередач и рекламы, а также другие релевантные иллюстрации. Более того, несмотря на его яркие описания визуальных примеров, своего рода «фильмография» («виз-ком-о-графия»?) и список источников описанных им фрагментов был бы полезен тем из нас, кто хотел бы исследовать этот вопрос самостоятельно. Возможно, последующие издания книги могли бы включать CD-ROM с полноэкранными видео цитируемых им фрагментов.
Гораздо более серьёзную проблему вызывает довольно небрежное отношение Мессариса к возможностям цифровой обработки изображений, хотя, по общему признанию, полное обсуждение этой темы, безусловно, выходит за рамки данной книги. Он относит эту проблему к категории «всех форм изменения изображения, предназначенных для сокрытия обнаружения подделки» (стр. 167). Эта ссылка сделана в попытке примирить свою позицию с позицией авторов, обеспокоенных «наивным» взглядом широкой публики на изображения, особенно фотографические, как на точные копии реальности (стр. 168). В этой связи он отмечает, что «изображение может давать ложную или вводящую в заблуждение картину реальности, оставаясь при этом верным принципам, по которым реальность воспринимается» (стр. 168). Но, таким образом, обходя вопрос о «семантике» визуальных образов (если можно так выразиться), П. Мессарис избегает серьёзного рассмотрения того, что многие считают «кризисом денотации», порожденным новыми технологиями визуализации. Остаётся надеяться, что в конце концов он обратит свою немалую проницательность и интеллект к этой щекотливой теме. Прежде чем углубляться в детали аргументации, П. Мессарис отмечает дефицит соответствующих исследований:
"В целом, исследования, посвященные осознанию зрителями визуальных условностей и манипуляций, по-прежнему редки в академической науке, несмотря на то, что визуальная грамотность стала предметом серьёзного беспокойства. Аналогичный дефицит систематических эмпирических данных характерен для большинства других тем, которые я буду обсуждать в этой книге, за одним заметным исключением — а именно, проблемой интерпретации неподвижных изображений неопытными зрителями" (стр. 39)
Несмотря на такой дефицит и акцент на разработке теоретической точки зрения, а не на её проверке, П. Мессарис, как уже отмечалось, цитирует множество разнообразных исследований. Однако, пожалуй, одним из любопытных упущений является работа Бэггейли, Фергюсона и Брукса «Психология телевизионного образа» (1980), в которой представлены результаты серии экспериментов, призванных «выявить... искажения [сообщения, вносимые невербальными методами посредничества] и установить их психологическую значимость в различных ситуациях». Однако более уместно воспринимать слова П. Мессариса как настойчивый призыв к исследователям сосредоточить своё внимание и энергию на тех темах, на которые уже откликнулись сам П. Мессарис и студенты его учебного заведения (Школа коммуникации Анненберга, Пенсильванский университет; список литературы в книге включает 11 статей, написанных П. Мессарисом или в соавторстве с ним, а также одну докторскую и 12 магистерских диссертаций Анненберга).
Несмотря на все минусы, книга «Визуальная грамотность» может быть очень полезна. На самом деле, не будет преувеличением сказать, что серьезным студентам или исследователям теории и исследований визуальной коммуникации следует ознакомиться с ее содержанием, чтобы считаться «грамотными» в этой области.
Заключительные слова Мессариса в какой-то мере удовлетворяют тех из нас, кто признаёт ценность диалектики теории и практики в медиаобразовании, хотя его последняя оговорка должна заставить всех нас задуматься: «В мире, полном визуальных манипуляций, результаты этого исследования указывают на один из возможных путей повышения осведомлённости зрителей о намерениях автора — обучение производству. Однако даже столь трудоёмкий метод не всегда может быть достаточным» (стр. 183).
Книга П. Мессариса может не понравиться тем, кто привык к тому, что Дж. Кэрролл называл «современной усвоенной мудростью», то есть к пониманию произвольности изображений и необходимости изучения их визуальных кодов для извлечения смысла. Действительно, большую часть времени и энергии он тратит на опровержение идеи о первоначальном непонимании изображений необразованными зрителями и на контекстуализацию трудностей, с которыми сталкиваются дети на ранних этапах когнитивного развития. Тем не менее, П. Мессарис прилагает большие усилия, чтобы подчеркнуть, что пропасть между этой «антиреалистической» концепцией изображений и его позицией является лишь относительной и не является непреодолимой для тех, кто избегает дихотомического мышления. Это обсуждение, а также сопоставление его позиции с позицией «межкультурных различий в визуальной коммуникации», занимают большую часть заключительной главы.
«Визуальная грамотность» — достойный образец академической науки. П. Мессарис хорошо излагает свои аргументы и пишет доходчиво; избегает жаргона и путанных рассуждений, делая книгу доступной для студентов младших курсов или широкой аудитории, не умаляя её ценности для «экспертов» по визуальной коммуникации. Однако порой он склонен излишне осторожничать в изложении своей позиции, допуская ошибки и злоупотребляя фразой «Если я прав...».
Он также несколько вольно обращается с терминологией (учитывая его похвальную заботу о точности языка), одним из примеров чего является визуальный «синтаксис». С другой стороны, у него есть особый талант ясно и живо описывать (аудио)визуальные фрагменты, которые он приводит в качестве примеров и объектов для анализа. Тем не менее, в книге, посвящённой визуальной коммуникации, хотелось бы видеть ещё больше кадров из фильмов, телепередач и рекламы, а также другие релевантные иллюстрации. Более того, несмотря на его яркие описания визуальных примеров, своего рода «фильмография» («виз-ком-о-графия»?) и список источников описанных им фрагментов был бы полезен тем из нас, кто хотел бы исследовать этот вопрос самостоятельно. Возможно, последующие издания книги могли бы включать CD-ROM с полноэкранными видео цитируемых им фрагментов.
Гораздо более серьёзную проблему вызывает довольно небрежное отношение Мессариса к возможностям цифровой обработки изображений, хотя, по общему признанию, полное обсуждение этой темы, безусловно, выходит за рамки данной книги. Он относит эту проблему к категории «всех форм изменения изображения, предназначенных для сокрытия обнаружения подделки» (стр. 167). Эта ссылка сделана в попытке примирить свою позицию с позицией авторов, обеспокоенных «наивным» взглядом широкой публики на изображения, особенно фотографические, как на точные копии реальности (стр. 168). В этой связи он отмечает, что «изображение может давать ложную или вводящую в заблуждение картину реальности, оставаясь при этом верным принципам, по которым реальность воспринимается» (стр. 168). Но, таким образом, обходя вопрос о «семантике» визуальных образов (если можно так выразиться), П. Мессарис избегает серьёзного рассмотрения того, что многие считают «кризисом денотации», порожденным новыми технологиями визуализации. Остаётся надеяться, что в конце концов он обратит свою немалую проницательность и интеллект к этой щекотливой теме. Прежде чем углубляться в детали аргументации, П. Мессарис отмечает дефицит соответствующих исследований:
"В целом, исследования, посвященные осознанию зрителями визуальных условностей и манипуляций, по-прежнему редки в академической науке, несмотря на то, что визуальная грамотность стала предметом серьёзного беспокойства. Аналогичный дефицит систематических эмпирических данных характерен для большинства других тем, которые я буду обсуждать в этой книге, за одним заметным исключением — а именно, проблемой интерпретации неподвижных изображений неопытными зрителями" (стр. 39)
Несмотря на такой дефицит и акцент на разработке теоретической точки зрения, а не на её проверке, П. Мессарис, как уже отмечалось, цитирует множество разнообразных исследований. Однако, пожалуй, одним из любопытных упущений является работа Бэггейли, Фергюсона и Брукса «Психология телевизионного образа» (1980), в которой представлены результаты серии экспериментов, призванных «выявить... искажения [сообщения, вносимые невербальными методами посредничества] и установить их психологическую значимость в различных ситуациях». Однако более уместно воспринимать слова П. Мессариса как настойчивый призыв к исследователям сосредоточить своё внимание и энергию на тех темах, на которые уже откликнулись сам П. Мессарис и студенты его учебного заведения (Школа коммуникации Анненберга, Пенсильванский университет; список литературы в книге включает 11 статей, написанных П. Мессарисом или в соавторстве с ним, а также одну докторскую и 12 магистерских диссертаций Анненберга).
Несмотря на все минусы, книга «Визуальная грамотность» может быть очень полезна. На самом деле, не будет преувеличением сказать, что серьезным студентам или исследователям теории и исследований визуальной коммуникации следует ознакомиться с ее содержанием, чтобы считаться «грамотными» в этой области.