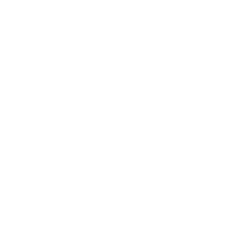красота в глазах смотрящего
Перевод исследования Э. Хаузен о развитии эстетического мышления
Ниже — перевод научной статьи: Housen, A. (1997). Eye of the Beholder: Research, Theory and Practice. Paper presented at the conference of "Aesthetic and Art Education: a Transdisciplinary Approach,". September 27−29, 1999, Lisbon, Portugal.
Все научные статьи по визуальной грамотности — здесь.
Все научные статьи по визуальной грамотности — здесь.
Введение
Народная мудрость, поэзия и развитие посткартезианской философии подводят нас к известному в современной эстетике утверждению: «красота в глазах смотрящего». Ориентировка на зрителя и взаимодействие между объектом и нашим восприятием породила сложные вопросы, с которыми эстетика сталкивается по сей день. В этой статье я опишу свою работу за последние двадцать пять лет: исследования, с помощью которых я пыталась найти ответы на вопросы: «Какова природа эстетического восприятия (aesthetic response — другие варианты перевода „эстетический отклик“, „отклик на красоту“, „эстетическая реакция“, „опыт эстетического восприятия“)?», «Как лучше всего исследовать и измерять это восприятие?» и «Поможет ли изучение эстетического восприятия более эффективно преподавать и развивать его?».
Мое исследование этих вопросов изначально было попыткой зафиксировать и измерить отклик на красоту в изобразительном искусстве. Интервью со зрителями разного возраста и с разным опытом привели меня к идее о том, что необходимо разрабатывать новые образовательные подходы к развитию восприятия произведений искусства. В процессе разработки я проводила исследования, выдвигала гипотезы и внедряла их в практику, и повторяла эти шаги снова и снова. Этот процесс оказался увлекательным и привел к результатам, которых я не могла предвидеть в самом начале.
Содержание
Мое исследование этих вопросов изначально было попыткой зафиксировать и измерить отклик на красоту в изобразительном искусстве. Интервью со зрителями разного возраста и с разным опытом привели меня к идее о том, что необходимо разрабатывать новые образовательные подходы к развитию восприятия произведений искусства. В процессе разработки я проводила исследования, выдвигала гипотезы и внедряла их в практику, и повторяла эти шаги снова и снова. Этот процесс оказался увлекательным и привел к результатам, которых я не могла предвидеть в самом начале.
Содержание
Мои исходные предположения
Философы на протяжении всей истории человечества вели дискуссии о том, как мы воспринимаем и понимаем произведения искусства, извлекаем из них смысл. Часто говорят: «От того, как мы смотрим, зависит то, что мы видим», но эта истина редко применяется к самой эстетике. То, как мы смотрим на вопросы, несомненно, влияет на наши выводы. Поэтому я начну с раскрытия предпосылок моего исследования, основополагающих принципов, которые определили мой подход к вопросам эстетики. Изначально мои предположения были наивными и интуитивными; лишь гораздо позже я пришла к их более формальному пониманию. Тем не менее, мои юношеские догадки сформировали мои исследования эстетического восприятия и повлияли на мои открытия. Именно они дали моей работе иную отправную точку.
Моё первое предположение заключалось в том, что, возможно, важнейший ключ к пониманию эстетического опыта — наивный или начинающий зритель. В юности я получала огромное удовольствие от созерцания произведений искусства и мне было совершенно непонятно, почему многие люди не испытывают таких же эмоций. Очевидно, что все опытные зрители начинают как наивные и неискушённые, поэтому я пыталась понять, что заставляет неопытных зрителей быть настолько отстранёнными, настолько оторванными от самой универсальной формы человеческого самовыражения — искусства? Так, мой основной интерес к эстетическому восприятию наивного зрителя резко отличался от обычного подхода: понять, как воспринимают красоту эксперты, и затем учить неопытных «экспертному видению».
Во-вторых, меня интересовал конкретный, непосредственный опыт, а не абстрактные обобщения. Эстетический опыт обычно описывают одним из трёх способов. Первые авторы сосредоточены на стиле изображения, гармонии, балансе, перспективе, интенции автора или иконографии — категориях эксперта «с наметанным глазом», например, в сфере истории искусств [1]. Другие подчеркивают эмпатию, выразительность, опыт, катарсис, созерцание — категории эстетической философии — или яркость, сочетание фигуры и фона, личные предпочтения — категории психологии [2]. Третья группа рассматривает эстетический опыт через призму хобби и традиций, биографий, демографических особенностей, культуры или стилей обучения — категорий образования [3].
Будучи молодым исследователем, я пришла к выводу, что этих абстрактных категорий недостаточно. Они мало что раскрывали, поскольку явно означали разное для разных людей и еще меньше относились к опыту наивного зрителя. Более того, в этих категориях не было различия между восприятием новичка и опытного зрителя. Ученые часто писали так, будто эти категории были взаимоисключающими, в то время как я понимала, что многие категории могут сосуществовать и пересекаться. Напротив, я хотела начать с азов, выявляя и понимая речь наивных зрителей, отражающую их восприятие искусства.
В-третьих, меня интересовали различия в эстетическом опыте на макро- и микроуровнях. На микроуровне — процесс осмысления произведения искусства шаг за шагом.
Моё первое предположение заключалось в том, что, возможно, важнейший ключ к пониманию эстетического опыта — наивный или начинающий зритель. В юности я получала огромное удовольствие от созерцания произведений искусства и мне было совершенно непонятно, почему многие люди не испытывают таких же эмоций. Очевидно, что все опытные зрители начинают как наивные и неискушённые, поэтому я пыталась понять, что заставляет неопытных зрителей быть настолько отстранёнными, настолько оторванными от самой универсальной формы человеческого самовыражения — искусства? Так, мой основной интерес к эстетическому восприятию наивного зрителя резко отличался от обычного подхода: понять, как воспринимают красоту эксперты, и затем учить неопытных «экспертному видению».
Во-вторых, меня интересовал конкретный, непосредственный опыт, а не абстрактные обобщения. Эстетический опыт обычно описывают одним из трёх способов. Первые авторы сосредоточены на стиле изображения, гармонии, балансе, перспективе, интенции автора или иконографии — категориях эксперта «с наметанным глазом», например, в сфере истории искусств [1]. Другие подчеркивают эмпатию, выразительность, опыт, катарсис, созерцание — категории эстетической философии — или яркость, сочетание фигуры и фона, личные предпочтения — категории психологии [2]. Третья группа рассматривает эстетический опыт через призму хобби и традиций, биографий, демографических особенностей, культуры или стилей обучения — категорий образования [3].
Будучи молодым исследователем, я пришла к выводу, что этих абстрактных категорий недостаточно. Они мало что раскрывали, поскольку явно означали разное для разных людей и еще меньше относились к опыту наивного зрителя. Более того, в этих категориях не было различия между восприятием новичка и опытного зрителя. Ученые часто писали так, будто эти категории были взаимоисключающими, в то время как я понимала, что многие категории могут сосуществовать и пересекаться. Напротив, я хотела начать с азов, выявляя и понимая речь наивных зрителей, отражающую их восприятие искусства.
В-третьих, меня интересовали различия в эстетическом опыте на макро- и микроуровнях. На микроуровне — процесс осмысления произведения искусства шаг за шагом.
На уроках математики в школе учителя заставляли нас отслеживать не только сам ответ, но и то, как он получается. Они считали, что процесс мышления не менее важен, чем его результат. Поэтому мой подход к пониманию эстетического опыта заключался в следующем: «Как создаётся смысл? Какие мысли возникают в каждый момент эстетического восприятия?».
На макроуровне существует множество причин изменчивости эстетического восприятия. Различия могут отражать разные типологии или модальности, указывающие на то, что способ понимания или действия может меняться день ото дня. Однако, скорее всего, разница восприятия отражает разницу в развитии, — эволюцию в использовании ментальных фреймов для понимания искусства. В этом случае способ понимания искусства в определённой степени стабилен, но со временем развивается и меняется. Например, привычный для ребенка способ рисования отличается от привычного для профессионала. Многие исследования показывают, что рисунки маленьких детей напоминают головастиков, пока они постепенно не развивают новый способ рисования и больше никогда не возвращаются к рисункам-«головастикам». Это справедливо и отношении интерпретации (парадигмы) восприятия произведений искусства профессионалами. Фреймы профессионального восприятия стилей, эпох, материала и происхождения произведения искусства не соответствуют фреймам восприятия наивного зрителя. Поскольку ни один новичок не делает того, что делает профессионал, единственный способ достичь более продвинутого уровня — развитие того, что у новичка получается естественным образом. Эти начальные когнитивные рамки сохраняются, пока в определённый момент не сменятся другими — более продвинутыми.
В-четвертых, я предполагала, что конструктивистский и развивающий подходы — лучший путеводитель по эстетическому восприятию. Хорошее обучение — это нечто большее, чем просто передача учителем заранее усвоенной информации, неактуальной для ученика. «Конструктивистское обучение» развивает ментальные фреймы ученика; ученик познает, когда активно создает новые конструкции, формирует новые виды смысла новыми способами. Например, пытаясь интерпретировать изображение, ученик может начать понимать, что все отдельные элементы, наблюдаемые им на странице, связаны и образуют содержание, имеющее новый смысл. Со временем ученик понимает, что связь отдельных элементов не случайна, а спланированная автором. Будучи обнаруженной, «преднамеренность» (интенция автора) становится новой основой для интерпретации произведения искусства. Чтобы научиться смотреть на вещи по-новому, ученик должен опираться на собственный опыт, а не пытаться присвоить себе взгляд профессионала [4].
Наконец, я хотела проверить теории и углубить свои знания с помощью эмпирических методов исследования. Эстетическое восприятие необходимо изучать в его максимально естественной форме, без вмешательства. Вместо того, чтобы изменять то, что я изучала с помощью тестов и анкет, я решила «запечатлеть» отклик зрителей на эстетические объекты в его первоначальном состоянии, насколько это возможно, никак не направляя и не нарушая это состояние. В своих исследованиях я решила, что должна отказаться от заранее сформулированных представлений того, каким я ожидаю видеть эстетическое восприятие. Лучше фиксировать реальные, «живые» проявления эстетических реакций, а затем искать в них закономерности. И только потом — применять точные научные методы, качественный и количественный анализ для подтверждения или опровержения любой обнаруженной закономерности [5].
Итак, моя изначальная точка зрения на исследование эстетического восприятия включала следующее:
В-четвертых, я предполагала, что конструктивистский и развивающий подходы — лучший путеводитель по эстетическому восприятию. Хорошее обучение — это нечто большее, чем просто передача учителем заранее усвоенной информации, неактуальной для ученика. «Конструктивистское обучение» развивает ментальные фреймы ученика; ученик познает, когда активно создает новые конструкции, формирует новые виды смысла новыми способами. Например, пытаясь интерпретировать изображение, ученик может начать понимать, что все отдельные элементы, наблюдаемые им на странице, связаны и образуют содержание, имеющее новый смысл. Со временем ученик понимает, что связь отдельных элементов не случайна, а спланированная автором. Будучи обнаруженной, «преднамеренность» (интенция автора) становится новой основой для интерпретации произведения искусства. Чтобы научиться смотреть на вещи по-новому, ученик должен опираться на собственный опыт, а не пытаться присвоить себе взгляд профессионала [4].
Наконец, я хотела проверить теории и углубить свои знания с помощью эмпирических методов исследования. Эстетическое восприятие необходимо изучать в его максимально естественной форме, без вмешательства. Вместо того, чтобы изменять то, что я изучала с помощью тестов и анкет, я решила «запечатлеть» отклик зрителей на эстетические объекты в его первоначальном состоянии, насколько это возможно, никак не направляя и не нарушая это состояние. В своих исследованиях я решила, что должна отказаться от заранее сформулированных представлений того, каким я ожидаю видеть эстетическое восприятие. Лучше фиксировать реальные, «живые» проявления эстетических реакций, а затем искать в них закономерности. И только потом — применять точные научные методы, качественный и количественный анализ для подтверждения или опровержения любой обнаруженной закономерности [5].
Итак, моя изначальная точка зрения на исследование эстетического восприятия включала следующее:
- сфокусироваться на восприятии новичка, неопытного зрителя;
- изучать конкретные, сиюминутные мысли в процессе эстетического восприятия, а не абстрактные категории;
- искать когнитивные фреймы, которые раскрываются последовательно («эволюцию эстетического познания»);
- иметь в виду, что только активный опыт учащихся приводит к развитию;
- опираться на "включенное наблюдение", объективно без вмешательства фиксировать эстетические реакции, быть открытой к неожиданным закономерностям, но интерпретировать данные со всей научной точностью.
Что такое эстетический отклик и можно ли его измерить?
Основной метод, которым я пользовалась, — сбор данных в свободном интервью в форме потока сознания. Поток сознания — это даже не интервью, а непосредственный пересказ эстетических впечатлений в ходе восприятия произведения искусства. «Интервьюер» задаёт только один вопрос: «Что происходит на картине?», а когда респондент начинает отвечать на этот вопрос в форме потока сознания, респондент «исчезает». Единственное дополнительное вмешательство интервьюера — это вопрос: «Есть ли что-нибудь ещё?» Таким образом, процесс представляет собой монолог, размышления вслух, в ходе которых зритель пытается понять арт-объект. Участников просят просто говорить обо всём, что они видят, рассматривая репродукцию произведения искусства, говорить всё, что приходит им в голову. Нет никаких прямых вопросов или других подсказок, которые могли бы повлиять на процесс восприятия, что сводит к минимуму предвзятость исследователя. Метод открытого интервью или «Интервью по эстетическому развитию» (Aesthetic Development Interview, ADI), позволяет заглянуть в мыслительные процессы человека. Обычно такое интервью длится от 10 до 20 минут.
Каждый монолог расшифровывается и анализируется путем его разбиения на мыслительные единицы — короткие фразы, часто состоящие всего из нескольких слов, которые затем изучаются путем сравнения с областями и подкатегориями «Руководства по кодированию эстетического развития» (сборник всех мыслей из исходной выборки интервью, призванный раскрыть полный набор стадий от новичка до эксперта). Монологи участников из США, России, Казахстана и Литвы — разного возраста, социально-экономического положения, этнической принадлежности и уровня образования.
В руководстве по кодированию используются два типа различий: «области мышления», которые определяют широкие классы мыслей, и «категории», которые отражают качественные различия внутри этих классов.
Сначала мы смотрим на тип высказывания наблюдателя. Он может сказать: «мяч красный», «красный мяч напоминает мне леденец», «мне нравится красный цвет» или «красный здесь ярче, чем здесь». При анализе становится ясно, что эти высказывания принципиально отличаются друг от друга, хотя каждое из них посвящено цвету. Я рассматриваю эти различия с точки зрения ментальных действий и / или эмоциональных реакций наблюдателя, которые можно свести к категориям или доменам. В нашем примере высказывания относятся к категориям наблюдения, ассоциации, предпочтения и сравнения.
Далее высказывания в пределах одной категории разделяются и кодируются. Например, в категории предпочтений зритель, который говорит: «Мне нравится картина, потому что фиолетовый — мой любимый цвет» обоснует свое предпочтение отлично от зрителя, который говорит: «Мне нравится картина, потому что фиолетовый — интересный объединяющий цвет». Хотя сначала мы классифицируем высказывания по основным категориям (таким как наблюдения, предпочтения, ассоциации, оценки, сравнения и т. д.), именно уточнения второго уровня в полной мере иллюстрируют рассуждения зрителя о произведении искусства. Здесь специфические особенности мышления человека являются основным инструментом для анализа эстетического опыта.
Каждый монолог изучается одним или несколькими обученными кодировщиками, чьи оценки, полученные вручную («ogive score» — огивная оценка), сравниваются с оценкой, выставленной обученным клиническим экспертом. Окончательная оценка присваивается испытуемому, если две независимые оценки совпадают. Мы неизменно наблюдаем значительную согласованность мнений экспертов в этих двух типах оценок. Валидность подтверждается тем фактом, что мы получаем один и тот же уровень оценки стадии развития эстетического восприятия с помощью двух различных аналитических методов.
Используя эту систему, мы смогли оценить стадии различных моделей мышления испытуемых — от новичков до опытных зрителей. Мой первый вопрос и заключался в том, существуют ли явные различия в их эстетическом восприятии. Если различия есть, то как они соотносятся с собранными дополнительными данными? Мы обратились к различным внешним переменным, чтобы подтвердить значимость разделения по стадиям. Например, нам удалось показать, что при группировке испытуемых по стадиям, переменные в их демографических, художественных и музейных профилях соответствовали стадиям. Это, по-видимому, даёт дополнительные основания полагать, что эстетические стадии представляют собой последовательность развития эстетического опыта.
Каждый монолог расшифровывается и анализируется путем его разбиения на мыслительные единицы — короткие фразы, часто состоящие всего из нескольких слов, которые затем изучаются путем сравнения с областями и подкатегориями «Руководства по кодированию эстетического развития» (сборник всех мыслей из исходной выборки интервью, призванный раскрыть полный набор стадий от новичка до эксперта). Монологи участников из США, России, Казахстана и Литвы — разного возраста, социально-экономического положения, этнической принадлежности и уровня образования.
В руководстве по кодированию используются два типа различий: «области мышления», которые определяют широкие классы мыслей, и «категории», которые отражают качественные различия внутри этих классов.
Сначала мы смотрим на тип высказывания наблюдателя. Он может сказать: «мяч красный», «красный мяч напоминает мне леденец», «мне нравится красный цвет» или «красный здесь ярче, чем здесь». При анализе становится ясно, что эти высказывания принципиально отличаются друг от друга, хотя каждое из них посвящено цвету. Я рассматриваю эти различия с точки зрения ментальных действий и / или эмоциональных реакций наблюдателя, которые можно свести к категориям или доменам. В нашем примере высказывания относятся к категориям наблюдения, ассоциации, предпочтения и сравнения.
Далее высказывания в пределах одной категории разделяются и кодируются. Например, в категории предпочтений зритель, который говорит: «Мне нравится картина, потому что фиолетовый — мой любимый цвет» обоснует свое предпочтение отлично от зрителя, который говорит: «Мне нравится картина, потому что фиолетовый — интересный объединяющий цвет». Хотя сначала мы классифицируем высказывания по основным категориям (таким как наблюдения, предпочтения, ассоциации, оценки, сравнения и т. д.), именно уточнения второго уровня в полной мере иллюстрируют рассуждения зрителя о произведении искусства. Здесь специфические особенности мышления человека являются основным инструментом для анализа эстетического опыта.
Каждый монолог изучается одним или несколькими обученными кодировщиками, чьи оценки, полученные вручную («ogive score» — огивная оценка), сравниваются с оценкой, выставленной обученным клиническим экспертом. Окончательная оценка присваивается испытуемому, если две независимые оценки совпадают. Мы неизменно наблюдаем значительную согласованность мнений экспертов в этих двух типах оценок. Валидность подтверждается тем фактом, что мы получаем один и тот же уровень оценки стадии развития эстетического восприятия с помощью двух различных аналитических методов.
Используя эту систему, мы смогли оценить стадии различных моделей мышления испытуемых — от новичков до опытных зрителей. Мой первый вопрос и заключался в том, существуют ли явные различия в их эстетическом восприятии. Если различия есть, то как они соотносятся с собранными дополнительными данными? Мы обратились к различным внешним переменным, чтобы подтвердить значимость разделения по стадиям. Например, нам удалось показать, что при группировке испытуемых по стадиям, переменные в их демографических, художественных и музейных профилях соответствовали стадиям. Это, по-видимому, даёт дополнительные основания полагать, что эстетические стадии представляют собой последовательность развития эстетического опыта.
Стадии развития эстетического мышления
Описанным выше методом было выделено пять различных способов или стадий восприятия произведения искусства [6]. На каждой стадии зритель реагирует на произведение искусства уникальным, характерным образом. То есть, восприятие произведения искусства начинающим зрителем кардинально отличается от восприятия даже немного более опытного зрителя. В то время как начинающий зритель будет говорить о том, что напоминает ему картина, более опытный — будет рассуждать, как она была создана. Ниже приводится краткое описание этих стадий, иллюстрированное высказываниями зрителей, рассматривающих картину Пабло Пикассо «Девушка перед зеркалом».
На первой стадии, оценочной, зрители становятся рассказчиками. Опираясь на свои чувства и личные ассоциации, они отмечают конкретные детали в произведении искусства, которые включают в повествование. Глядя на картину Пикассо «Девушка перед зеркалом», зритель говорит: «…Здесь она оранжевая, здесь она чёрная, здесь она синяя. Вот у этой девочки (указывает направо) какие-то полоски. И там что-то есть, какой-то круг, что-то зелёное». Здесь суждения основаны на том, что зрители знают и любят. Эмоции окрашивают комментарии, поскольку зрители как будто проникают в произведение искусства и становятся частью разворачивающейся драмы. Другой зритель: «…Я вижу… здесь двух женщин… Они… смотрят друг на друга… похоже, у одной из них… несчастье. Они чем-то расстроены… Ну, вот эта женщина, она чем-то больна… планета». А другой замечает: «…хм, похоже, здесь женщина… похоже, это мужчина, и похоже, что они живут в замке, богаты или что-то в этом роде, и все они нарядно одеты, только что вернулись с вечеринки…».
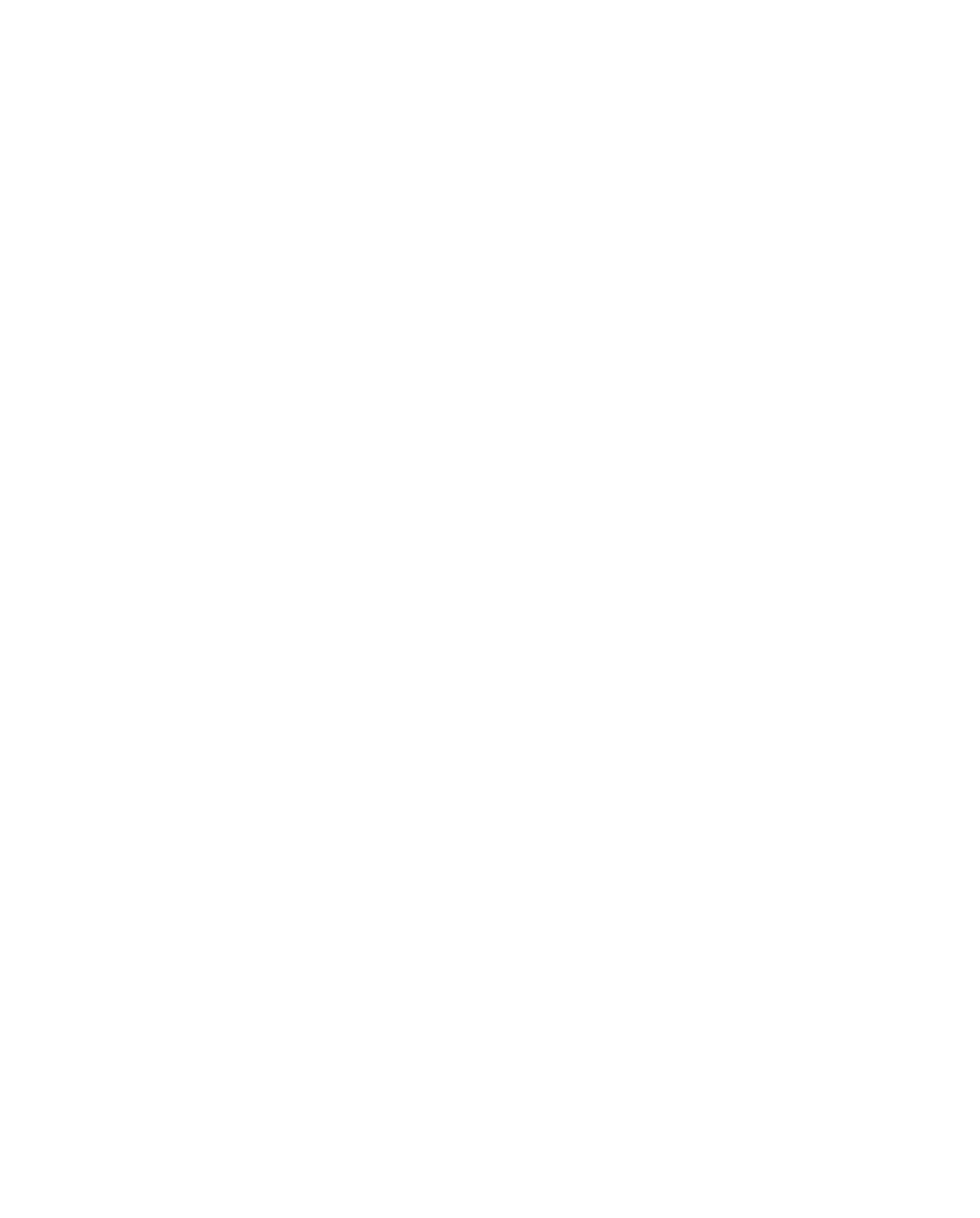
«Девушка перед зеркалом»
Пабло Пикассо. Pablo Picasso. Girl before a Mirror. MoMA. Дата обращения: 17 июля 2020., Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=8422762
На стадии II, конструктивной, зрители начинают выстраивать систему взглядов на произведение искусства, используя наиболее логичные и доступные инструменты: собственное восприятие, знание окружающего мира, а также принятые в их мире социальные и моральные ценности. Зритель комментирует: «…Очень странная картина. Человеческие лица… Только лица, а тел нет…». Если работа выглядит не так, как «должна выглядеть», если мастерство, умение, техника, труд автора, утилитарность, функция не очевидны, если, например, дерево оранжевое, а не коричневое, или тема кажется неуместной, — то зрители считают работу «странной», неполноценной и не имеющей ценности. По мере углубления эмоций зритель начинает дистанцироваться от произведения искусства и одновременно проявлять интерес к замыслу художника. Зритель в следующем примере отмечает: «…возможно, это зеркало… или что-то ещё… но оно словно стоит в какой-то раме… украшенной несколькими слоями краски. На этой раме… или в этом зеркале отражается лицо какого-то мужчины, но не анфас… Видны губы, рот, подбородок и половина лица… Если посмотреть на лицо этого человека… это человек с какой-то другой планеты…».
На третьей стадии — классификации — зритель занимает позицию искусствоведа, анализирует и оценивает критически. Он определяет место создания, «школу», стиль, время и происхождение произведения. «Я смотрю на… кажется, это репродукция картины, которая кажется абстрактной. Кажется, это Пикассо…». Зритель расшифровывает содержание произведения, изучает поверхность холста в поисках подсказок, используя свой багаж знаний и фактов, который он готов и стремится расширить. Этот зритель считает, что при правильной классификации смысл произведения искусства и послание автора можно объяснить и рационализировать. «…Когда я смотрю на картину, кажется, что она… кажется, что она… художник делит картину на четыре части, на самом деле, вы также можете смотреть на неё пополам, и кажется, что это два разных взгляда на женщину, на женскую фигуру, это, это как бы зеркальное отражение, но всё же кажется, что это разные позы, это показывает внутреннее и внешнее…».
На стадии IV зрители-интерпретаторы стремятся к личному контакту с произведением искусства. Исследуя холст, позволяя смыслу произведения медленно раскрываться, они оценивают тонкость линий, формы и цвета. Теперь критические навыки ставятся на службу чувствам и интуиции: эти зрители позволяют проявиться смыслу произведения, его символам. «…Ну, это похоже на символическое изображение самопознания человека, она как будто открывает для себя что-то, возможно, пугающее его, потому что этот образ, он какой-то необычный и непонятный…». Каждая новая встреча зрителя с произведением искусства — это возможность для новых переживаний, сравнений и открытий.
Зная, что идентичность и ценность произведения искусства подвержены переосмыслению, эти зрители видят, что их собственные процессы подвержены случайности и изменениям. «…разные цвета, представленные на этой картине, вероятно, отражают разные переживания художницы. Красный цвет, вероятно, символизирует некую агрессию, а синий, напротив, чувство покоя… это напряжение между этими двумя цветами… Здесь… изменения, поскольку она открывает что-то в себе… На мой взгляд, суть этой картины — в каком-то определённом изменении, в каком-то новом взгляде, возможно, в нескольких взглядах человека на самого себя. Возможно, во всём этом есть совершенно иной, совершенно иной смысл. Возможно, есть женщина, которая написала какую-то картину, и, работая над ней, она постепенно познавала себя…».
На стадии V «воссоздания» — зрители, имея за плечами богатый опыт созерцания и размышлений о произведениях искусства, теперь «охотно отказываются от недоверия». «…Когда я впервые увидел эту картину… всякий раз, когда я на неё смотрю, мой взгляд по какой-то странной причине устремляется в середину композиции… возможно, потому, что именно там меньше всего понятно, что происходит…». Знакомая картина подобна старому другу, которого знаешь близко, но который полон сюрпризов, интересен в повседневной жизни, но раскрывается неожиданно и в других ситуациях. «…Я забыл точную дату, не знаю, родилась ли уже дочь… ты как бы гадаешь, каково ей было бы стать частью картины Пикассо…». И в другой момент: «…Мой взгляд… как бы падает… на её тело, а затем поднимается вверх из-за дополняющей его формы… семечко, похожее на инжир… образ плодородия в теле…». Как и во всех важных дружеских отношениях, время — ключевой элемент, позволяющий зрителям на стадии воссоздания узнать биографию работы — её время, историю, вопросы, противоречия и тонкости. «…Мне кажется, было бы интересно… посидеть и посмотреть, как Пикассо это делает, потому что… возникает фантазия, что это было… очень непрерывное, лёгкое, уверенное, спонтанное… создание всех этих форм, где одна плавно перетекает в другую… Интересно… было ли это для него легко… Мне всегда казалось, что он точно знал, что делает. Было бы интересно… побывать там…».
Опираясь на собственную историю, связанную с конкретным произведением искусства и с опытным взглядом в целом, «воссоздающие» зрители видят и нечто личное, и то, что более широко охватывает общечеловеческие проблемы. Их память пронизывает картину, причудливо сочетая личное и понятное всем людям. «…когда задумываешься о том, чем всё это, зеркальное отражение, должно быть… оно не проигрывает тот момент, оно не отражает ничего буквально, но определённо кажется, что оно отражает гораздо более эмоциональное состояние, чем физическую реальность того, что стекло должно отражать…». И добавляет: «…меня просто осенило, что этот оттенок синего в отражающем зеркале выглядит так, будто он создаёт из него некое подобие Мадонны, обручённой с алтарём, или, может быть, это как бы второстепенное звено женщины, жены, матери, то есть своего рода идеализированный католический образ… жены и матери в зеркале. Я никогда раньше об этом не думал…».
На третьей стадии — классификации — зритель занимает позицию искусствоведа, анализирует и оценивает критически. Он определяет место создания, «школу», стиль, время и происхождение произведения. «Я смотрю на… кажется, это репродукция картины, которая кажется абстрактной. Кажется, это Пикассо…». Зритель расшифровывает содержание произведения, изучает поверхность холста в поисках подсказок, используя свой багаж знаний и фактов, который он готов и стремится расширить. Этот зритель считает, что при правильной классификации смысл произведения искусства и послание автора можно объяснить и рационализировать. «…Когда я смотрю на картину, кажется, что она… кажется, что она… художник делит картину на четыре части, на самом деле, вы также можете смотреть на неё пополам, и кажется, что это два разных взгляда на женщину, на женскую фигуру, это, это как бы зеркальное отражение, но всё же кажется, что это разные позы, это показывает внутреннее и внешнее…».
На стадии IV зрители-интерпретаторы стремятся к личному контакту с произведением искусства. Исследуя холст, позволяя смыслу произведения медленно раскрываться, они оценивают тонкость линий, формы и цвета. Теперь критические навыки ставятся на службу чувствам и интуиции: эти зрители позволяют проявиться смыслу произведения, его символам. «…Ну, это похоже на символическое изображение самопознания человека, она как будто открывает для себя что-то, возможно, пугающее его, потому что этот образ, он какой-то необычный и непонятный…». Каждая новая встреча зрителя с произведением искусства — это возможность для новых переживаний, сравнений и открытий.
Зная, что идентичность и ценность произведения искусства подвержены переосмыслению, эти зрители видят, что их собственные процессы подвержены случайности и изменениям. «…разные цвета, представленные на этой картине, вероятно, отражают разные переживания художницы. Красный цвет, вероятно, символизирует некую агрессию, а синий, напротив, чувство покоя… это напряжение между этими двумя цветами… Здесь… изменения, поскольку она открывает что-то в себе… На мой взгляд, суть этой картины — в каком-то определённом изменении, в каком-то новом взгляде, возможно, в нескольких взглядах человека на самого себя. Возможно, во всём этом есть совершенно иной, совершенно иной смысл. Возможно, есть женщина, которая написала какую-то картину, и, работая над ней, она постепенно познавала себя…».
На стадии V «воссоздания» — зрители, имея за плечами богатый опыт созерцания и размышлений о произведениях искусства, теперь «охотно отказываются от недоверия». «…Когда я впервые увидел эту картину… всякий раз, когда я на неё смотрю, мой взгляд по какой-то странной причине устремляется в середину композиции… возможно, потому, что именно там меньше всего понятно, что происходит…». Знакомая картина подобна старому другу, которого знаешь близко, но который полон сюрпризов, интересен в повседневной жизни, но раскрывается неожиданно и в других ситуациях. «…Я забыл точную дату, не знаю, родилась ли уже дочь… ты как бы гадаешь, каково ей было бы стать частью картины Пикассо…». И в другой момент: «…Мой взгляд… как бы падает… на её тело, а затем поднимается вверх из-за дополняющей его формы… семечко, похожее на инжир… образ плодородия в теле…». Как и во всех важных дружеских отношениях, время — ключевой элемент, позволяющий зрителям на стадии воссоздания узнать биографию работы — её время, историю, вопросы, противоречия и тонкости. «…Мне кажется, было бы интересно… посидеть и посмотреть, как Пикассо это делает, потому что… возникает фантазия, что это было… очень непрерывное, лёгкое, уверенное, спонтанное… создание всех этих форм, где одна плавно перетекает в другую… Интересно… было ли это для него легко… Мне всегда казалось, что он точно знал, что делает. Было бы интересно… побывать там…».
Опираясь на собственную историю, связанную с конкретным произведением искусства и с опытным взглядом в целом, «воссоздающие» зрители видят и нечто личное, и то, что более широко охватывает общечеловеческие проблемы. Их память пронизывает картину, причудливо сочетая личное и понятное всем людям. «…когда задумываешься о том, чем всё это, зеркальное отражение, должно быть… оно не проигрывает тот момент, оно не отражает ничего буквально, но определённо кажется, что оно отражает гораздо более эмоциональное состояние, чем физическую реальность того, что стекло должно отражать…». И добавляет: «…меня просто осенило, что этот оттенок синего в отражающем зеркале выглядит так, будто он создаёт из него некое подобие Мадонны, обручённой с алтарём, или, может быть, это как бы второстепенное звено женщины, жены, матери, то есть своего рода идеализированный католический образ… жены и матери в зеркале. Я никогда раньше об этом не думал…».
«Голоса» разных стадий
Задача моего исследования состояла в том, чтобы выявить присущий каждой стадии развития «голос», объективно прислушаться к этим «голосам» и найти природные закономерности и изменения в процессе их развития. Размышляя вслух, зрители пытаются понять произведение искусства, и помогают мне обнаружить природные особенности такого размышления. Если мы вернёмся к зрителю на первой стадии (оценочной), мы услышим, как он продолжает:
«…Хм, похоже, здесь женщина. Похоже, она обнимает мужчину, и похоже, что они живут в замке, возможно, богаты или что-то в этом роде, и они все нарядно одеты, похоже, только что вернулись с вечеринки, и этот парень, похоже, покрасил волосы или что-то в этом роде. А вот это похоже на меч или что-то такое, что несёт что-то внутри, и, э-э, вот здесь, это часть его одежды. Там много окон позади, это тело женщины, маленькие пузырьки, и похоже, что она, возможно, беременна, э-э. Похоже, вы не видите остальную часть её руки. Это похоже на змею, э-э, эта полосатая штука, похоже, что-то обвивает её шею… её лицо похоже на лицо индейца…».
Посмотрим, что здесь происходит и как работает мышление этого зрителя. Зритель случайно замечает конкретную деталь: «похоже на женщину…». Затем он немедленно интерпретирует другую фигуру не как отражение в зеркале, а как другого человека — мужчину, которого обнимают. Зритель не всматривается, чтобы понять, действительно ли это другой человек, и не вдумывается в смысл картины: может ли это быть мужчина. От этой немедленной интерпретации без дальнейших размышлений и оценок зритель переходит в повествование. Изображение становится непосредственной основой для рассуждений, довольно неточно связанных с картиной и основанных на спонтанной быстрой интерпретации. Эта история становится опытом зрителя и развивается легко и непринужденно, переходя от одной образной ассоциации, довольно своеобразной, — к другой (замки, меч и т. д.).
Теперь обратимся к голосу зрителя на стадии 2:
«…Итак, я вижу что-то вроде красивого изображения. Я вижу лицо, у которого, как бы, разные измерения. Половина выглядит нормально, а другая половина… выглядит довольно… хм, выглядит довольно болезненной. Запутанная картинка, в ней много разных вещей. Не совсем реалистичная. Много разных цветов, хм… не настоящие, как настоящие, нормальные тела, они выглядят довольно… э-э… неряшливо. И это похоже на зеркало справа, в которое смотрит девушка… Но отражение, на которое она смотрит, другое. И это всё… Я смотрю на зеркало, потому что она… это как зеркало, но отражение другое, она смотрит на себя… Я смотрю на фон, он мне непонятен… Я вообще не понимаю [пауза]…».
На первый взгляд, этот голос может показаться похожим на первый, потому что это тоже, очевидно, взгляд неопытного зрителя, мало знакомого с формальными свойствами и языком живописи. Но внимательный анализ каждой мысли (то, что мы называем мыслительными единицами) выявляет множество отличий от первой стадии. Прежде всего, этот зритель делает множество наблюдений, и они непростые. «Я вижу лицо, у которого, как бы, разные измерения. Половина выглядит нормально, а другая половина… выглядит довольно… хм, выглядит довольно болезненной». Эти замечания отражают интерес к тому, как сделаны вещи, насколько хорошо они выполнены и вписывается ли изображение в привычную для зрителя культуру или традиции — язык, искусство, историю, религию или обычаи. «…Не совсем реалистичная картина. Много разных цветов, хм, у них нет настоящих, как у настоящих, нормальных тел, они выглядят красиво нарисованными, э-э… небрежно…». Наблюдения связываются в систему и дополняются подробностями. «И это похоже на зеркало справа, в которое смотрит девушка… Но отражение, на которое она смотрит, другое». Исчезли личные или идиосинкратические реакции (идиосинкратические — «индивидуальные, своеобразные реакции, отличающиеся от общепринятых»). Этот зритель начинает осознавать намерения художника, ищет подсказки о том, как написана картина, и пытается понять, почему картина была написана именно так. «…Я смотрю на фон, и он мне непонятен. Я вообще не понимаю…».
Что изменилось между этими стадиями? Мы видим движение:
Эти изменения могут показаться случайными и тривиальными. Но они не случайны: мы видим их повторение в тысячах образцов исследований в разных уголках мира. Напротив, я считаю, что эти сдвиги природно обусловлены и предсказуемы: они раскрывают нечто фундаментальное об эстетическом восприятии человека, его ментальных истоках и траектории развития. Эти сдвиги чрезвычайно важны.
«…Хм, похоже, здесь женщина. Похоже, она обнимает мужчину, и похоже, что они живут в замке, возможно, богаты или что-то в этом роде, и они все нарядно одеты, похоже, только что вернулись с вечеринки, и этот парень, похоже, покрасил волосы или что-то в этом роде. А вот это похоже на меч или что-то такое, что несёт что-то внутри, и, э-э, вот здесь, это часть его одежды. Там много окон позади, это тело женщины, маленькие пузырьки, и похоже, что она, возможно, беременна, э-э. Похоже, вы не видите остальную часть её руки. Это похоже на змею, э-э, эта полосатая штука, похоже, что-то обвивает её шею… её лицо похоже на лицо индейца…».
Посмотрим, что здесь происходит и как работает мышление этого зрителя. Зритель случайно замечает конкретную деталь: «похоже на женщину…». Затем он немедленно интерпретирует другую фигуру не как отражение в зеркале, а как другого человека — мужчину, которого обнимают. Зритель не всматривается, чтобы понять, действительно ли это другой человек, и не вдумывается в смысл картины: может ли это быть мужчина. От этой немедленной интерпретации без дальнейших размышлений и оценок зритель переходит в повествование. Изображение становится непосредственной основой для рассуждений, довольно неточно связанных с картиной и основанных на спонтанной быстрой интерпретации. Эта история становится опытом зрителя и развивается легко и непринужденно, переходя от одной образной ассоциации, довольно своеобразной, — к другой (замки, меч и т. д.).
Теперь обратимся к голосу зрителя на стадии 2:
«…Итак, я вижу что-то вроде красивого изображения. Я вижу лицо, у которого, как бы, разные измерения. Половина выглядит нормально, а другая половина… выглядит довольно… хм, выглядит довольно болезненной. Запутанная картинка, в ней много разных вещей. Не совсем реалистичная. Много разных цветов, хм… не настоящие, как настоящие, нормальные тела, они выглядят довольно… э-э… неряшливо. И это похоже на зеркало справа, в которое смотрит девушка… Но отражение, на которое она смотрит, другое. И это всё… Я смотрю на зеркало, потому что она… это как зеркало, но отражение другое, она смотрит на себя… Я смотрю на фон, он мне непонятен… Я вообще не понимаю [пауза]…».
На первый взгляд, этот голос может показаться похожим на первый, потому что это тоже, очевидно, взгляд неопытного зрителя, мало знакомого с формальными свойствами и языком живописи. Но внимательный анализ каждой мысли (то, что мы называем мыслительными единицами) выявляет множество отличий от первой стадии. Прежде всего, этот зритель делает множество наблюдений, и они непростые. «Я вижу лицо, у которого, как бы, разные измерения. Половина выглядит нормально, а другая половина… выглядит довольно… хм, выглядит довольно болезненной». Эти замечания отражают интерес к тому, как сделаны вещи, насколько хорошо они выполнены и вписывается ли изображение в привычную для зрителя культуру или традиции — язык, искусство, историю, религию или обычаи. «…Не совсем реалистичная картина. Много разных цветов, хм, у них нет настоящих, как у настоящих, нормальных тел, они выглядят красиво нарисованными, э-э… небрежно…». Наблюдения связываются в систему и дополняются подробностями. «И это похоже на зеркало справа, в которое смотрит девушка… Но отражение, на которое она смотрит, другое». Исчезли личные или идиосинкратические реакции (идиосинкратические — «индивидуальные, своеобразные реакции, отличающиеся от общепринятых»). Этот зритель начинает осознавать намерения художника, ищет подсказки о том, как написана картина, и пытается понять, почему картина была написана именно так. «…Я смотрю на фон, и он мне непонятен. Я вообще не понимаю…».
Что изменилось между этими стадиями? Мы видим движение:
- от рассказа к описанию большего количества деталей картины;
- от личных или идиосинкратических ассоциаций к культурным или общепринятым ассоциациям;
- от немногочисленных случайных наблюдений к всё более связанным наблюдениям;
- от простых наблюдений к подробным, более сложным наблюдениям;
- от простых наблюдений к наблюдениям, относящимся к опыту просмотра и создания других произведений искусства;
- от причудливого, личного воображения (эгоцентрических идей) к увеличению количества наблюдений с конкретной точкой отсчёта, которую могут видеть и на которую могут ссылаться другие;
- от подхода, когда смотришь один раз и остальное «додумываешь», к подходу, когда смотришь много раз более внимательно и осознанно.
Эти изменения могут показаться случайными и тривиальными. Но они не случайны: мы видим их повторение в тысячах образцов исследований в разных уголках мира. Напротив, я считаю, что эти сдвиги природно обусловлены и предсказуемы: они раскрывают нечто фундаментальное об эстетическом восприятии человека, его ментальных истоках и траектории развития. Эти сдвиги чрезвычайно важны.
Я полагаю, что они представляют собой переход от того, что можно было бы назвать творчески ресурсной и автономной формой эстетической реакции, к «преаналитическому» режиму, в котором зритель становится способным и заинтересованным в расшифровке намерений, техники и способа конструирования смысла художника, а также в классификации произведения искусства в рамках своей собственной культуры.
В некотором смысле этот сдвиг (и другие, которые совершают зрители-новички) — это «парадный вход» в мир эстетики. Более высокие стадии развития профессионального восприятия могут быть достигнуты только путём прохождения этих необходимых начальных стадий, подобно тому, как ползание естественным образом предшествует ходьбе, которая, в свою очередь, предшествует бегу. Метафорически: если мы ценим способность и возможность бегать, мы должны понимать и ценить ползание и переход к ходьбе.
Хотя эта метафора в данном случае оказывается несостоятельной: практически все люди учатся бегать в раннем возрасте и без явного обучения, но эстетическое восприятие — особенно профессиональное — развивается не у всех, даже если их этому учили. В наших исследованиях развития эстетического восприятия в музеях и школах мы обнаруживаем преобладание взрослых зрителей, находящихся на II стадии или близкой к ней.
Хотя эта метафора в данном случае оказывается несостоятельной: практически все люди учатся бегать в раннем возрасте и без явного обучения, но эстетическое восприятие — особенно профессиональное — развивается не у всех, даже если их этому учили. В наших исследованиях развития эстетического восприятия в музеях и школах мы обнаруживаем преобладание взрослых зрителей, находящихся на II стадии или близкой к ней.
Содействие эстетическому развитию
Мы не можем относиться к уровню эстетического развития как статической величине. Поэтому около 10 лет назад мы с коллегами начали исследования, чтобы определить, можно ли способствовать развитию эстетического мышления, особенно у начинающих, неопытных зрителей. Мы начали работать с музеями и школами, используя развивающие программы в местах, упомянутых ранее (например, в Бостоне, Миннеаполисе, Сан-Антонио (США), Санкт-Петербурге (Россия) и Вильнюсе (Литва)).
Нашей первоначальной задачей, конечно же, было определить, как можно содействовать эстетическому развитию. Очевидно, что речь не шла о том, чтобы изучать, что делают эксперты, а затем учить детей делать то же самое. Этот подход к образованию устарел и имеет внушительную историю неудач. Он напоминает некоторые картины XIX века, где дети изображены как взрослые, только гораздо меньшего размера. Если бы образовательный подход «сверху вниз», обучающий новичков действовать как эксперты, действительно работал, каждый бы стал экспертом, причём в очень раннем возрасте. Мы были убеждены, что голоса, которые мы слышали в «потоках сознания», — результат активных попыток зрителя конструировать смысл. На каждой стадии зрители подходят к этому по-разному, отталкиваясь от того, что они уже знают, открыли или сконструировали ранее. Это активный процесс проб и открытий новых способов конструирования и формирования смысла. Их подход к обучению отражал конструктивистский принцип преподавания: учащиеся не могут эффективно усваивать «готовые» ответы, а должны выйти за рамки роли пассивного получателя информации, открывать и конструировать смыслы сами и для самих себя.
Нашей первоначальной задачей, конечно же, было определить, как можно содействовать эстетическому развитию. Очевидно, что речь не шла о том, чтобы изучать, что делают эксперты, а затем учить детей делать то же самое. Этот подход к образованию устарел и имеет внушительную историю неудач. Он напоминает некоторые картины XIX века, где дети изображены как взрослые, только гораздо меньшего размера. Если бы образовательный подход «сверху вниз», обучающий новичков действовать как эксперты, действительно работал, каждый бы стал экспертом, причём в очень раннем возрасте. Мы были убеждены, что голоса, которые мы слышали в «потоках сознания», — результат активных попыток зрителя конструировать смысл. На каждой стадии зрители подходят к этому по-разному, отталкиваясь от того, что они уже знают, открыли или сконструировали ранее. Это активный процесс проб и открытий новых способов конструирования и формирования смысла. Их подход к обучению отражал конструктивистский принцип преподавания: учащиеся не могут эффективно усваивать «готовые» ответы, а должны выйти за рамки роли пассивного получателя информации, открывать и конструировать смыслы сами и для самих себя.
Создание учебной программы
Как создать условия для развития личного опыта или поддержать поиск открытий? Мы начинаем с создания атмосферы групповых исследований: показываем стимул (произведение искусства или его репродукцию), способ сосредоточить внимание с помощью тщательно продуманных вопросов и организуем процесс (диалог), который удерживает внимание в нужном русле и позволяет разворачивать процесс «разгадывания загадок» и построения смыслов. Таким образом, учащийся получает достаточно времени «на задание» и множество возможностей попытаться понять смысл тем или иным способом. У него также есть возможность познакомиться с мыслями сверстников, что может ускорить изменения в его собственном мышлении [7].
Нашу учебную программу определяет последовательность вопросов в сочетании с серией тщательно подобранных произведений искусства. Роль учителя — в том, чтобы задавать эти открытые вопросы, побуждать участников группы к размышлениям вслух и создать условия для того, чтобы каждый участник мог делиться мыслями о том, что видит.
Задавая последовательность вопросов, основанную на стадиях развития, учитель поддерживает обсуждение произведения искусства, но не делится известной ему информацией, перефразирует комментарии зрителей-учеников, но не оценивает их ответы и связывает воедино разные точки зрения. Обсуждения длятся от 45 минут до одного часа. Преподаватели проходят обучение по этому методу развития.
Эта учебная программа и метод состоят из разных компонентов, но я сосредоточусь только на цели — разработке вопросов, способствующих развитию эстетического восприятия. Наше понимание каждой стадии — того, что происходит естественным образом в сознании у каждого из нас, и изменений, которые происходят при переходе на следующую стадию, — дало нам богатый материал для формулировки вопросов и оптимальной последовательности, в которой их нужно задавать. Несмотря на многие годы исследований, тестов и проб, пересмотра и корректировок нашей учебной программы она может показаться обманчиво простой и авторитарной с одной стороны, но слишком свободной — с другой.
Вопросы и их последовательность могут выглядеть лёгкими для освоения и выполнения. Но чтобы раскрыть логику и взаимосвязь причин, по которым сформулированные нами вопросы работают, требуется их анализ и расшифровка.
Рассмотрим два первых вопроса, которые предназначены для развития навыков на стадиях I и II: какова их внутренняя логика. Вопросы следующие:
И ученики, и учителя согласны, что это хорошая постановка вопросов. Ответить на них может любой ученик, но что ещё важнее, мы видим, что в школе и после занятий так все и делают. Эти вопросы побуждают говорить всех учеников, даже таких, кто обычно молчалив. Мы неоднократно сталкиваемся с учителями, которые удивляются, что даже ученикам, никогда раньше не выступавшим на уроках, есть что сказать, и другие их слушают.
«Что происходит на картине?» — Что делает этот вопрос хорошим? Прежде всего, этот вопрос разработан в соответствии со стадии I. Этот вопрос просит учеников сделать то, в чём они профессионалы от природы — просто рассказать историю. Предлагая ученикам сделать то, что, как мы знаем, они уже умеют делать очень хорошо, мы вовлекаем их в обсуждение. Все участвуют, потому что, возможно, впервые каждому есть, что сказать. Если ученики молчат, то скорее всего потому, что они не уверены в правильности ответа, который знают учитель и некоторые умные одноклассники. Ученики молчат, чтобы избежать оценки — они не хотят ошибиться и выглядеть глупо. Но в искусстве нет единственно верного ответа. Обычно существует множество «правильных» или обоснованных ответов. Ключ к успеху — выявить и создать пространство для множества различных реакций — в нашем случае, реакции стадии I — и подтвердить эту реакцию как обоснованный опыт. Мы не сравниваем эстетический отклик первой стадии с откликом на других стадиях и не оцениваем его. Вместо этого стараемся стимулировать изучение произведений искусства, способствовать артикуляции и обмену идеями, а также подтверждению опыта учеников в свободной среде без оценок. Первый вопрос помогает ученикам активно и успешно расшифровывать произведение искусства. Он инклюзивный и приглашает, фактически — вовлекает в участие в дискуссии.
Второй вопрос: «Что из того, что вы видите, указывает на это?» — подталкивает к мышлению, характерному для второй стадии. Одна из ключевых особенностей стадии I заключается в том, что зритель быстро и хаотично окидывает взглядом произведение искусства, находить ассоциацию и сразу же начинает рассказывать историю. При этом зритель может не тратить время или не обращать пристального внимания на само произведение, а скорее опирается на некий мысленный образ, возникающий в его воображении. Что зритель на стадии I делает нечасто, а зритель на стадии II делает, так это — смотрит на картину ещё раз. Второй вопрос призывает посмотреть ещё раз, и посмотреть внимательнее. Но он также спрашивает зрителя о доказательствах своего ответа на первый вопрос. Вопрос «Что на картине заставляет вас так говорить?» предлагает зрителю выделить конкретные элементы изображения и соотнести их с первым своим ответом. Теперь зрители должны подтвердить свои слова. Кратковременный, случайный взгляд на крупное и яркое сменяется более долгим и пристальным рассмотрением мелких и тонких деталей картины. Подтверждая свои предположения, зритель начинает размышлять и, возможно, интерпретировать. Он должен пересмотреть и критически оценить свои первичные идеи — этому способствуют новые наблюдения, комментарии коллег и помощь учителя. Единственная «оценка» учителя — это вежливое предложение дополнить ответ на вопрос, в данном случае — предоставить доказательства своей интерпретации изображения. При этом просьба не пугает: учеников просят основывать свои рассуждения на том, что они видят перед собой, а не на том, что они узнали две недели назад.
Таким образом, у зрителя есть время попрактиковаться в мышлении новым, не совсем привычным, но и не сложным способом. Пересматривая, реконструируя и развивая новые гипотезы, ученик узнаёт, что эстетическое восприятие открыто и допускает множество интерпретаций. Он понимает, что ошибаться или менять мнение — это нормально, что чем больше смотришь, тем больше видишь, и что такое занятие — увлекательно. Всё это, конечно же, является хорошим опытом исследовательского поведения. (Учителя часто сообщают — и мы подтверждаем это своими тестами — как полезные навыки исследовательской работы в области искусства используются в других областях). Фактически, мы пришли к убеждению, что обсуждение искусства может быть одной из самых плодотворных почв для развития навыков критического мышления именно потому, что единственно правильного ответа в искусстве нет, — и такие дискуссии можно использовать для вовлечения в процесс развития критического мышления всех учащихся всех возрастов.
Конечно, мы могли бы задавать и другие вопросы, например: «Что вы можете рассказать мне о времени или месте создания этой картины?». Но главная причина выбора именно этих вопросов в том, что они основаны на результатах нашего анализа реакций зрителей (их поведения и речи) на разных стадиях развития эстетического восприятия на произведения искусства. Для зрителя на первой стадии вопрос «О чём эта картина?» на самом деле означает: «Какая история здесь нарисована?». Хотя первые два вопроса могут быть использованы для зрителей любого уровня, они особенно эффективны для начинающих, поскольку разработаны специально для них. (Но на самом деле, часто входят и в репертуар опытных зрителей). Эти вопросы вызывают интерес новичка, удовлетворяют его потребности и побуждают перейти к следующему уровню вопросов, над которыми он естественным образом будет размышлять. Вот почему крайне важно задавать вопрос о смысле произведения таким образом, чтобы побудить зрителя рассказать историю картины. Сочетание вопроса, на который можно отвечать все, что получается естественно, и вопроса, поддерживающего этот тип коммуникации, ведет к плодотворной дискуссии. Это даёт время для практики сосредоточенного, детального изучения картины и возврата к легкому — и потому успешному общению. Второй вопрос требует размышлений, повторного просмотра и повторного обдумывания. Он помогает зрителям понять, что мнение при интерпретации произведения можно изменить, что не существует единственно верного способа восприятия произведения.
С каждой новой интерпретацией ученики внезапно осознают вариативность истолкования того, что видят. Внезапно, почти волшебным образом, они видят произведение по-другому — и это им кажется таким же обоснованным, как и их первоначальное восприятие. Мы раз за разом наблюдаем, как этот процесс вызывает у зрителей всё больший интерес к тому, что скажут другие. Это создаёт своего рода мотивированное слушание, потому что они увлечены личным опытом, наблюдая, как весь гештальт — общее восприятие картины — меняется на их глазах под влиянием комментария другого человека. Они с увлечением открывают каждую подсказку в картине, каждую новую деталь, на которую стоит обратить внимание, и каждый новый способ интерпретации, который можно придумать, словно участвуют в яркой детективной игре по поиску подсказок. Они начинают спонтанно развивать идеи друг друга: Джонни находит новые доказательства для интерпретации Салли.
Благодаря тщательно продуманным вопросам и изображениям, подобранным для наблюдений, подобные обсуждения легко начать и на удивление трудно прервать. У нас есть множество примеров, когда дети, начиная с учеников второго класса, обсуждают один и тот же слайд до часа. Учитель, демонстрируя ненавязчивость и непредвзятость, поддерживает обсуждение, повторяя вопросы, перефразируя и связывая высказывания учеников, привлекая всех к участию и понимая, когда следует двигаться дальше. Поскольку учителя часто привыкли быть источником информации, теми, кто говорит и оценивает ответы учеников прямо или косвенно, этот метод может быть для них очень сложным. На первый взгляд, наш подход напоминает метод Сократа, основанный на наводящих вопросах. Знаменитый диалектический подход, проиллюстрированный в часто цитируемом отрывке из «Менона», заключается в том, что Сократ добивается понимания геометрических принципов от невежественного мальчика-раба. В этом отрывке Сократ задаёт своего рода «наводящие вопросы», помогая мальчику-рабу переходить от одного понимания к другому, чтобы прийти к правильному выводу. Но наш подход существенно отличается. Мы не ведем ученика к конкретному выводу шаг за шагом.
Скорее, наши вопросы побуждают ученика обратить внимание на другой способ открытия или построения смысла. Мы моделируем для ученика новый подход к пониманию или обретению смысла, новую систему для наблюдения и восприятия всех видов объектов. Ученик достигает этого путём многократной практики в установлении различных видов связей, вырабатывая определённые привычки мышления. Поскольку новые связи или привычки основаны на собственных вопросах и способностях ученика, слово «новый» отчасти вводит в заблуждение. Как и в случае с сократовским методом, выводы новы лишь в том смысле, что они неизвестны и не используются учащимся явно или сознательно. Однако открытия эстетического восприятия («эврика») отличаются от сократических тем, что полученный опыт может быть действительно новым, неизвестным, потому что в интерпретации искусства нет окончательного, верного ответа.
Эта учебная программа и метод состоят из разных компонентов, но я сосредоточусь только на цели — разработке вопросов, способствующих развитию эстетического восприятия. Наше понимание каждой стадии — того, что происходит естественным образом в сознании у каждого из нас, и изменений, которые происходят при переходе на следующую стадию, — дало нам богатый материал для формулировки вопросов и оптимальной последовательности, в которой их нужно задавать. Несмотря на многие годы исследований, тестов и проб, пересмотра и корректировок нашей учебной программы она может показаться обманчиво простой и авторитарной с одной стороны, но слишком свободной — с другой.
Вопросы и их последовательность могут выглядеть лёгкими для освоения и выполнения. Но чтобы раскрыть логику и взаимосвязь причин, по которым сформулированные нами вопросы работают, требуется их анализ и расшифровка.
Рассмотрим два первых вопроса, которые предназначены для развития навыков на стадиях I и II: какова их внутренняя логика. Вопросы следующие:
- Что происходит на картине? (What is going on here?)
- Что из того, что вы видите, указывает на это? (What do you see that makes you say that?)
И ученики, и учителя согласны, что это хорошая постановка вопросов. Ответить на них может любой ученик, но что ещё важнее, мы видим, что в школе и после занятий так все и делают. Эти вопросы побуждают говорить всех учеников, даже таких, кто обычно молчалив. Мы неоднократно сталкиваемся с учителями, которые удивляются, что даже ученикам, никогда раньше не выступавшим на уроках, есть что сказать, и другие их слушают.
«Что происходит на картине?» — Что делает этот вопрос хорошим? Прежде всего, этот вопрос разработан в соответствии со стадии I. Этот вопрос просит учеников сделать то, в чём они профессионалы от природы — просто рассказать историю. Предлагая ученикам сделать то, что, как мы знаем, они уже умеют делать очень хорошо, мы вовлекаем их в обсуждение. Все участвуют, потому что, возможно, впервые каждому есть, что сказать. Если ученики молчат, то скорее всего потому, что они не уверены в правильности ответа, который знают учитель и некоторые умные одноклассники. Ученики молчат, чтобы избежать оценки — они не хотят ошибиться и выглядеть глупо. Но в искусстве нет единственно верного ответа. Обычно существует множество «правильных» или обоснованных ответов. Ключ к успеху — выявить и создать пространство для множества различных реакций — в нашем случае, реакции стадии I — и подтвердить эту реакцию как обоснованный опыт. Мы не сравниваем эстетический отклик первой стадии с откликом на других стадиях и не оцениваем его. Вместо этого стараемся стимулировать изучение произведений искусства, способствовать артикуляции и обмену идеями, а также подтверждению опыта учеников в свободной среде без оценок. Первый вопрос помогает ученикам активно и успешно расшифровывать произведение искусства. Он инклюзивный и приглашает, фактически — вовлекает в участие в дискуссии.
Второй вопрос: «Что из того, что вы видите, указывает на это?» — подталкивает к мышлению, характерному для второй стадии. Одна из ключевых особенностей стадии I заключается в том, что зритель быстро и хаотично окидывает взглядом произведение искусства, находить ассоциацию и сразу же начинает рассказывать историю. При этом зритель может не тратить время или не обращать пристального внимания на само произведение, а скорее опирается на некий мысленный образ, возникающий в его воображении. Что зритель на стадии I делает нечасто, а зритель на стадии II делает, так это — смотрит на картину ещё раз. Второй вопрос призывает посмотреть ещё раз, и посмотреть внимательнее. Но он также спрашивает зрителя о доказательствах своего ответа на первый вопрос. Вопрос «Что на картине заставляет вас так говорить?» предлагает зрителю выделить конкретные элементы изображения и соотнести их с первым своим ответом. Теперь зрители должны подтвердить свои слова. Кратковременный, случайный взгляд на крупное и яркое сменяется более долгим и пристальным рассмотрением мелких и тонких деталей картины. Подтверждая свои предположения, зритель начинает размышлять и, возможно, интерпретировать. Он должен пересмотреть и критически оценить свои первичные идеи — этому способствуют новые наблюдения, комментарии коллег и помощь учителя. Единственная «оценка» учителя — это вежливое предложение дополнить ответ на вопрос, в данном случае — предоставить доказательства своей интерпретации изображения. При этом просьба не пугает: учеников просят основывать свои рассуждения на том, что они видят перед собой, а не на том, что они узнали две недели назад.
Таким образом, у зрителя есть время попрактиковаться в мышлении новым, не совсем привычным, но и не сложным способом. Пересматривая, реконструируя и развивая новые гипотезы, ученик узнаёт, что эстетическое восприятие открыто и допускает множество интерпретаций. Он понимает, что ошибаться или менять мнение — это нормально, что чем больше смотришь, тем больше видишь, и что такое занятие — увлекательно. Всё это, конечно же, является хорошим опытом исследовательского поведения. (Учителя часто сообщают — и мы подтверждаем это своими тестами — как полезные навыки исследовательской работы в области искусства используются в других областях). Фактически, мы пришли к убеждению, что обсуждение искусства может быть одной из самых плодотворных почв для развития навыков критического мышления именно потому, что единственно правильного ответа в искусстве нет, — и такие дискуссии можно использовать для вовлечения в процесс развития критического мышления всех учащихся всех возрастов.
Конечно, мы могли бы задавать и другие вопросы, например: «Что вы можете рассказать мне о времени или месте создания этой картины?». Но главная причина выбора именно этих вопросов в том, что они основаны на результатах нашего анализа реакций зрителей (их поведения и речи) на разных стадиях развития эстетического восприятия на произведения искусства. Для зрителя на первой стадии вопрос «О чём эта картина?» на самом деле означает: «Какая история здесь нарисована?». Хотя первые два вопроса могут быть использованы для зрителей любого уровня, они особенно эффективны для начинающих, поскольку разработаны специально для них. (Но на самом деле, часто входят и в репертуар опытных зрителей). Эти вопросы вызывают интерес новичка, удовлетворяют его потребности и побуждают перейти к следующему уровню вопросов, над которыми он естественным образом будет размышлять. Вот почему крайне важно задавать вопрос о смысле произведения таким образом, чтобы побудить зрителя рассказать историю картины. Сочетание вопроса, на который можно отвечать все, что получается естественно, и вопроса, поддерживающего этот тип коммуникации, ведет к плодотворной дискуссии. Это даёт время для практики сосредоточенного, детального изучения картины и возврата к легкому — и потому успешному общению. Второй вопрос требует размышлений, повторного просмотра и повторного обдумывания. Он помогает зрителям понять, что мнение при интерпретации произведения можно изменить, что не существует единственно верного способа восприятия произведения.
С каждой новой интерпретацией ученики внезапно осознают вариативность истолкования того, что видят. Внезапно, почти волшебным образом, они видят произведение по-другому — и это им кажется таким же обоснованным, как и их первоначальное восприятие. Мы раз за разом наблюдаем, как этот процесс вызывает у зрителей всё больший интерес к тому, что скажут другие. Это создаёт своего рода мотивированное слушание, потому что они увлечены личным опытом, наблюдая, как весь гештальт — общее восприятие картины — меняется на их глазах под влиянием комментария другого человека. Они с увлечением открывают каждую подсказку в картине, каждую новую деталь, на которую стоит обратить внимание, и каждый новый способ интерпретации, который можно придумать, словно участвуют в яркой детективной игре по поиску подсказок. Они начинают спонтанно развивать идеи друг друга: Джонни находит новые доказательства для интерпретации Салли.
Благодаря тщательно продуманным вопросам и изображениям, подобранным для наблюдений, подобные обсуждения легко начать и на удивление трудно прервать. У нас есть множество примеров, когда дети, начиная с учеников второго класса, обсуждают один и тот же слайд до часа. Учитель, демонстрируя ненавязчивость и непредвзятость, поддерживает обсуждение, повторяя вопросы, перефразируя и связывая высказывания учеников, привлекая всех к участию и понимая, когда следует двигаться дальше. Поскольку учителя часто привыкли быть источником информации, теми, кто говорит и оценивает ответы учеников прямо или косвенно, этот метод может быть для них очень сложным. На первый взгляд, наш подход напоминает метод Сократа, основанный на наводящих вопросах. Знаменитый диалектический подход, проиллюстрированный в часто цитируемом отрывке из «Менона», заключается в том, что Сократ добивается понимания геометрических принципов от невежественного мальчика-раба. В этом отрывке Сократ задаёт своего рода «наводящие вопросы», помогая мальчику-рабу переходить от одного понимания к другому, чтобы прийти к правильному выводу. Но наш подход существенно отличается. Мы не ведем ученика к конкретному выводу шаг за шагом.
Скорее, наши вопросы побуждают ученика обратить внимание на другой способ открытия или построения смысла. Мы моделируем для ученика новый подход к пониманию или обретению смысла, новую систему для наблюдения и восприятия всех видов объектов. Ученик достигает этого путём многократной практики в установлении различных видов связей, вырабатывая определённые привычки мышления. Поскольку новые связи или привычки основаны на собственных вопросах и способностях ученика, слово «новый» отчасти вводит в заблуждение. Как и в случае с сократовским методом, выводы новы лишь в том смысле, что они неизвестны и не используются учащимся явно или сознательно. Однако открытия эстетического восприятия («эврика») отличаются от сократических тем, что полученный опыт может быть действительно новым, неизвестным, потому что в интерпретации искусства нет окончательного, верного ответа.
Результаты исследований
Описанные выше парадигмы теории и практики привели к проведению нескольких контролируемых лонгитюдных исследований в различных культурных условиях, подтвердив, что метод может ускорить эстетическое развитие. Лонгитюдные данные по двум выборкам, исследованию в Барде (Bard College, США) и исследованию в Байроне (США, Миннесота), показывают рост в экспериментальных группах от стадии I до стадии II.
С конца 1970-х годов мы собрали большое количество ADI (Aesthetic Development Interview — «Интервью по эстетическому развитию»): в общей сложности более 6000 из 15 культур. Несколько исследований в этой базе данных включают лонгитюдные данные, собираемые два раза в год в течение 4 или более лет. Фактически, мы продолжаем отслеживать учащихся в Байроне.
Большая часть данных получена от детей младшего возраста и их учителей. Выборки примерно пополам распределены между экспериментальной группой (группа Барда изучала программу, предшествующую программе VTS (visual thinking strategy), а Байрона — программу VTS) и контрольной группой.
Большая часть данных получена от детей младшего возраста и их учителей. Выборки примерно пополам распределены между экспериментальной группой (группа Барда изучала программу, предшествующую программе VTS (visual thinking strategy), а Байрона — программу VTS) и контрольной группой.
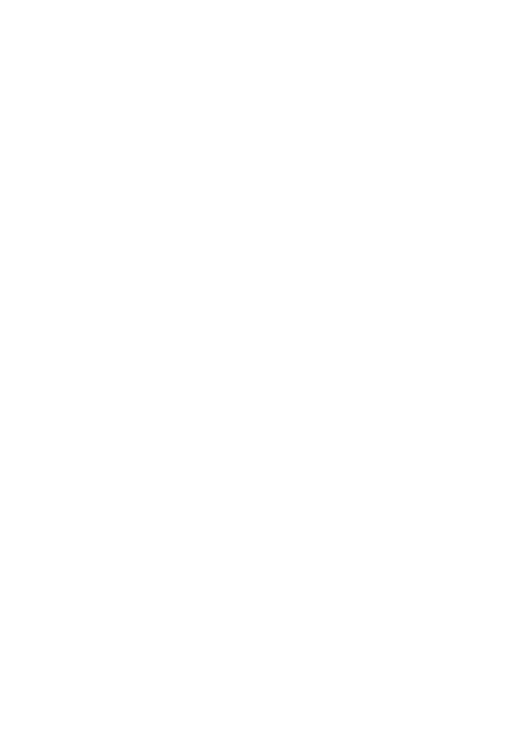
графики из оригинала статьи
В результате наших исследований мы получили ряд результатов, подлежащих оценке с помощью различных психологических тестов. В этом докладе нет цели подробно описывать результаты, но я не могу не сказать о существовании такого массива данных [1] и о некоторых основных наблюдаемых закономерностях в этом массиве:
- имеются многочисленные доказательства валидности и надежности предложенной мной оценки эстетического развития;
- типы мыслительных единиц в образцах озвученного процесса эстетического мышления не отличаются у разных групп населения Америки и Восточной Европы;
- до сих пор мы не наблюдали существенных гендерных различий в эстетическом восприятии;
- эстетическое мышление в значительной степени стабильно и неизменно; изменение стадий происходит медленно, в лучшем случае в течение многих месяцев, а обычно — лет;
- было обнаружено, что учащиеся до 18-20 лет редко находятся выше стадии II во всех культурах, с которыми мы работали;
- взрослые могут демонстрировать эстетическое восприятие на начальной стадии на уровне детей;
- большинство опрошенных взрослых редко показывают результаты выше стадии II; учителя общеобразовательных учреждений, участвовавшие в наших исследованиях, чаще всего находятся на стадиях наравне со своими учениками;
- при оценке эстетического восприятия у детей, их учителей, музейных работников и сотен взрослых наиболее важным фактором, предопределяющим уровень эстетического развития, по-видимому, является количество времени, проведенное ими за просмотром произведений искусства и в размышлениях о них;
- зрители на начальных стадиях развития неверно истолковывают идеи, которые обычно понятны более опытным зрителям, и неосознанно искажают смысл этих идей, когда их просят повторить их;
- дети, которых обучали различным «фактам или информации, полученным от экспертов», редко демонстрируют эту информацию в своих интервью по эстетическому развитию (ADI);
- микроизменения (категории мышления, которые меняются существенно) можно выявить за несколько месяцев, даже если смена стадии не произошла;
- некоторые переходы между стадиями кажутся более сложными, чем другие; один из них — переход на стадию III;
- метод постановки эстетических вопросов в программе стратегий визуального мышления (VTS), обсуждавшейся выше, привел к значительному ускорению смены стадий по сравнению с контрольной группой во всех исследованиях, проведенных нами в различных условиях; то есть, в наших исследованиях средний прирост уровня эстетического развития у учащихся экспериментальной группы составляет около половины стадии за учебный год — это прогрессивный рост, который не наблюдается у учащихся контрольной группы; учащиеся экспериментальной группы способны внимательно рассматривать произведения искусства, находить, пересматривать, обосновывать и делиться интерпретациями и размышлениями, основанными на своих наблюдениях.
- используя метод VTS, школьные учителя в контролируемых исследованиях могут достоверно добиться значительного изменения стадии у своих учеников, несмотря на то, что учителя находятся практически на том же эстетическом уровне, что и их ученики.
Заключение
Взгляд на эстетическое восприятие с нетрадиционной точки зрения и метод открытого наблюдения, выявляющий мысли о произведении искусства в форме потока сознания, позволили мне по-новому понять и измерить уровень эстетического восприятия. Таким образом я начала разрабатывать теорию эстетического развития, которая документирует и отслеживает различные виды эстетических реакций, которые, по-видимому, развиваются в предсказуемой последовательности.
Моя теория и измерения повлияли на практику. Ранние исследования эффективности образовательных программ музеев и школ выявили несколько тревожных результатов. Посетители музеев преимущественно находились на стадиях, с которыми музеи не знали, как работать; их образовательные программы оказались неэффективными, по крайней мере, с точки зрения эстетического развития. Мы начали разрабатывать новый тип образовательной практики, стимулирующий такое развитие. Мы видели, как наши исследования различных стадий напрямую определяют образовательную практику, которая в свою очередь подтверждает правильность теории. Наконец, наш метод исследования смог подтвердить эффективность образовательного метода в контролируемых экспериментах в нескольких культурах.
На первый взгляд может показаться, что подобное взаимодействие между исследованием, теорией и практикой влечет за собой запутанные, необъективные рассуждения, в которых мы находим и измеряем только то, что ищем. Но это не было так. Фактически, каждый этап нашего «интеллектуального путешествия» удивлял нас новыми результатами, а не подтверждал существовавшие ранее догадки. Некоторые наблюдатели утверждали, что метод VTS пригоден только для «обучения для проверки». Это вряд ли обосновано, поскольку мы не учим (в привычном смысле представления информации), а лишь задаем открытые вопросы. Аналогично, мы не проверяем (задавая конкретные вопросы по содержанию), а скорее моделируем течение потока сознания. Тот факт, что исследования, теория и практика так часто давали последовательные результаты, на мой взгляд, подтверждает обоснованность наблюдаемых нами закономерностей.
Переход между исследованием, теорией и практикой обогатил понимание эстетической реакции, показав, что это не просто один отклик, а скорее — цепочка откликов. Он показал, что естественное эстетическое развитие многих людей маловероятно, — особенно тех, кто не воспринимал произведения искусства и не размышлял о них. Он показал, что попытки научить неопытных зрителей мыслить как эксперты — тщетное занятие. Он показал, что неразумно игнорировать реальность эстетических реакций новичков. Он показал, что новички могут и будут развиваться, получив релевантный и провоцирующий стимул в виде произведения искусства, на который они могут реагировать, вопросы для размышления и пространство для обмена опытом. Резюмирую: эстетическое восприятие будет развиваться естественным и предсказуемым образом, если мы создадим для него условия.
Похоже, мир искусства больше, чем любой другой, поклоняется экспертам. Кураторы выставок и искусствоведы — «верховные жрецы» этого мира — редко создают среду, в которую другие могут легко войти. В сфере художественного образования существует деструктивная предвзятость: мы "выжимаем" из экспертов мнения о произведениях искусства и потом пытаемся научить неопытных зрителей «выдавать» это мнение. Мы привыкаем говорить «мимо ушей» большинства наших слушателей, чаще всего новичков с минимальным опытом или опытом, на который нельзя опереться. Чтобы развить эстетический отклик до уровня критических суждений, к которому мы все стремимся, мы должны поменять наше понимание преподавания и обучения.
Таким образом, наши исследования подтверждают наблюдения философа Альфреда Норта Уайтхеда. Идеально построенное образование учитывает развивающийся ум ученика, соответствуя «…естественным стремлениям ученика на данном этапе развития…». Уайтхед предупреждал нас, что «ни одна простая формула» и «…ни один ход мысли… не подойдет всем группам учащихся…». Наш метод, основанный на открытых вопросах, гарантирует практическую реализацию этой мудрости. В уроках учтено то, что способны усвоить ученики, и «несмотря на всю стимуляцию и руководство [учителя], творческий импульс к росту исходит от самого ученика и является неотъемлемой чертой личности» [9].
Задавая вопросы, соответствующие уровню развития и предлагающие зрителям взглянуть на объект по-новому, мы гарантируем, что ученик будет приобретать собственные знания, а не просто повторять за учителем (в повторении мало знаний, не так ли?). Используя предложенную учителем систему, ученик будет активно конструировать новый, оригинальный смысл, который станет его собственным опытом, и научится новому способу разгадывать смысл произведений искусства.
Такое обучение — это не «раздача фактов» и подражание экспертному мнению. Речь идёт о содействии отклику на эстетические объекты, который естественным образом возникает на каждом уровне развития, и создании среды для нового, более богатого восприятия искусства. Весь мой опыт подсказывает: если мы — педагоги, теоретики и исследователи, — создадим такую среду, то ученики удивят нас своей энергией, стремлением и способностями к развитию. В самой человеческой реакции — реакции на искусство — скрыта наша природная тяга к пространству для самовыражения. И мы должны гарантировать, что в современном технократическом мире понимаем ценность такой реакции и поддерживаем ее везде, где встречаем.
Моя теория и измерения повлияли на практику. Ранние исследования эффективности образовательных программ музеев и школ выявили несколько тревожных результатов. Посетители музеев преимущественно находились на стадиях, с которыми музеи не знали, как работать; их образовательные программы оказались неэффективными, по крайней мере, с точки зрения эстетического развития. Мы начали разрабатывать новый тип образовательной практики, стимулирующий такое развитие. Мы видели, как наши исследования различных стадий напрямую определяют образовательную практику, которая в свою очередь подтверждает правильность теории. Наконец, наш метод исследования смог подтвердить эффективность образовательного метода в контролируемых экспериментах в нескольких культурах.
На первый взгляд может показаться, что подобное взаимодействие между исследованием, теорией и практикой влечет за собой запутанные, необъективные рассуждения, в которых мы находим и измеряем только то, что ищем. Но это не было так. Фактически, каждый этап нашего «интеллектуального путешествия» удивлял нас новыми результатами, а не подтверждал существовавшие ранее догадки. Некоторые наблюдатели утверждали, что метод VTS пригоден только для «обучения для проверки». Это вряд ли обосновано, поскольку мы не учим (в привычном смысле представления информации), а лишь задаем открытые вопросы. Аналогично, мы не проверяем (задавая конкретные вопросы по содержанию), а скорее моделируем течение потока сознания. Тот факт, что исследования, теория и практика так часто давали последовательные результаты, на мой взгляд, подтверждает обоснованность наблюдаемых нами закономерностей.
Переход между исследованием, теорией и практикой обогатил понимание эстетической реакции, показав, что это не просто один отклик, а скорее — цепочка откликов. Он показал, что естественное эстетическое развитие многих людей маловероятно, — особенно тех, кто не воспринимал произведения искусства и не размышлял о них. Он показал, что попытки научить неопытных зрителей мыслить как эксперты — тщетное занятие. Он показал, что неразумно игнорировать реальность эстетических реакций новичков. Он показал, что новички могут и будут развиваться, получив релевантный и провоцирующий стимул в виде произведения искусства, на который они могут реагировать, вопросы для размышления и пространство для обмена опытом. Резюмирую: эстетическое восприятие будет развиваться естественным и предсказуемым образом, если мы создадим для него условия.
Похоже, мир искусства больше, чем любой другой, поклоняется экспертам. Кураторы выставок и искусствоведы — «верховные жрецы» этого мира — редко создают среду, в которую другие могут легко войти. В сфере художественного образования существует деструктивная предвзятость: мы "выжимаем" из экспертов мнения о произведениях искусства и потом пытаемся научить неопытных зрителей «выдавать» это мнение. Мы привыкаем говорить «мимо ушей» большинства наших слушателей, чаще всего новичков с минимальным опытом или опытом, на который нельзя опереться. Чтобы развить эстетический отклик до уровня критических суждений, к которому мы все стремимся, мы должны поменять наше понимание преподавания и обучения.
Таким образом, наши исследования подтверждают наблюдения философа Альфреда Норта Уайтхеда. Идеально построенное образование учитывает развивающийся ум ученика, соответствуя «…естественным стремлениям ученика на данном этапе развития…». Уайтхед предупреждал нас, что «ни одна простая формула» и «…ни один ход мысли… не подойдет всем группам учащихся…». Наш метод, основанный на открытых вопросах, гарантирует практическую реализацию этой мудрости. В уроках учтено то, что способны усвоить ученики, и «несмотря на всю стимуляцию и руководство [учителя], творческий импульс к росту исходит от самого ученика и является неотъемлемой чертой личности» [9].
Задавая вопросы, соответствующие уровню развития и предлагающие зрителям взглянуть на объект по-новому, мы гарантируем, что ученик будет приобретать собственные знания, а не просто повторять за учителем (в повторении мало знаний, не так ли?). Используя предложенную учителем систему, ученик будет активно конструировать новый, оригинальный смысл, который станет его собственным опытом, и научится новому способу разгадывать смысл произведений искусства.
Такое обучение — это не «раздача фактов» и подражание экспертному мнению. Речь идёт о содействии отклику на эстетические объекты, который естественным образом возникает на каждом уровне развития, и создании среды для нового, более богатого восприятия искусства. Весь мой опыт подсказывает: если мы — педагоги, теоретики и исследователи, — создадим такую среду, то ученики удивят нас своей энергией, стремлением и способностями к развитию. В самой человеческой реакции — реакции на искусство — скрыта наша природная тяга к пространству для самовыражения. И мы должны гарантировать, что в современном технократическом мире понимаем ценность такой реакции и поддерживаем ее везде, где встречаем.
Примечания
1. Хорошие примеры: Benedetto Croce, Giorgio Vasari, Heinrich Woelfflin, Bernard Berenson, Arnold Hauser, Jacob Burckhardt, Alfred Barr, Kenneth Clark, Paul Sachs, Clement Greenberg, and Lucy Lippard.
2. Эти идеи развивают работы по эстетике John Dewey, Carl Jung, Leo Tolstoy, Nelson Goodman, Suzanne Langer, и Arthur Danto. Этих психологических взглядов придерживались Rudolf Arnheim, John Kennedy, David Berlyne, James Gibson, and Ernst Gombrich.
3. Хорошие примеры — в работах Betty Lark-Horowitz, David Perkins и Howard Gardner.
4. Информацию о теоретиках, занимающихся эстетической, когнитивной, эволюционной и/или конструктивистской теорией, см. в трудах J.M. Baldwin, Rudolf Arnheim, L.S. Vygotsky, J. Piaget, D. Kuhn, E. Duckworth Catherine Twomey Fosnot, Jerome Bruner и J. Dewey.
5. Работа Jane Loevinger сыграла важную роль в разработке и проектировании моих исследовательских методологий. В частности, см.: Loevinger, Jane, R. Wessler, and C. Redmore. Measuring Ego Development, Vol. I, San Francisco: Jossey-Bass, 1970. Measuring Ego Development, Vol. II, San Francisco: Jossey-Bass, 1970. Loevinger, Jane. Ego Development: Conceptions and Theories. San Francisco: Jossey-Bass, 1976. «The Meaning and Measuring of Ego Development.» In the American Psychologist, 1966, pp. 195-206. «Construct Validity of the Sentence Completion Test of Ego Development,» in Applied Psychological Measurement, 3, 1979, pp. 281-311.)
6. Другие описания эстетического развития можно найти в работах следующих авторов: J. M. Baldwin, которого многие считают отцом эпистемологии и который написал основополагающие труды о развитии эстетического мышления; Baldwin, James Mark. Thought and Things: A Study of the Development and Meaning of Thought or Generic Logic, (Volumes III and IV). New York: Arno Press, 1975; Brunner, Cornelia. Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, 1975. "Aesthetic Judgment: Criteria Used to Evaluate Representational Art at Different Ages.” a thoughtful description of aesthetic judgments; J.R. Clayton, University of Utah, 1974. "An Investigation into the Developmental Trends in Aesthetics: A Study of Qualitative Similarities and Differences in Young."; Coffey, A.W. Dissertation Abstracts International, 29, (12b), 1968. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Massachusetts. "A Developmental Study of Aesthetic Preferences for Realistic and Nonobjective Paintings.", Murphy, Dennis Thomas. Unpublished doctoral dissertation, Hofstra University, 1973. "A Developmental Study of the Criteria Used by Children to Justify Their Affective Response to Arts Experiences." and M. Parsons. How We Understand Art: A Cognitive Developmental Account of Aesthetic Experience, Cambridge University Press, 1987, а также различные более ранние статьи по эстетическому развитию.
7. Разработанная нами учебная программа называется «Стратегии визуального мышления» (Visual Thinking Strategies — VTS). Подробнее см. библиографию на нашем сайте: http://www.vtshome.org.
8. Полный список наших исследований см. в справочнике исследований VUE на нашем сайте: http://www.vtshome.org.
9. См. главы I, III, VII в книге Alfred North Whitehead. The Aims of Education and Other Essays. New York: The Free Press, 1929.
Housen, A. (1997). Eye of the Beholder: Research, Theory and Practice. Paper presented at the conference of "Aesthetic and Art Education: a Transdisciplinary Approach," sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation, Service of Education, September 27-29, 1999, Lisbon, Portugal.
1. Хорошие примеры: Benedetto Croce, Giorgio Vasari, Heinrich Woelfflin, Bernard Berenson, Arnold Hauser, Jacob Burckhardt, Alfred Barr, Kenneth Clark, Paul Sachs, Clement Greenberg, and Lucy Lippard.
2. Эти идеи развивают работы по эстетике John Dewey, Carl Jung, Leo Tolstoy, Nelson Goodman, Suzanne Langer, и Arthur Danto. Этих психологических взглядов придерживались Rudolf Arnheim, John Kennedy, David Berlyne, James Gibson, and Ernst Gombrich.
3. Хорошие примеры — в работах Betty Lark-Horowitz, David Perkins и Howard Gardner.
4. Информацию о теоретиках, занимающихся эстетической, когнитивной, эволюционной и/или конструктивистской теорией, см. в трудах J.M. Baldwin, Rudolf Arnheim, L.S. Vygotsky, J. Piaget, D. Kuhn, E. Duckworth Catherine Twomey Fosnot, Jerome Bruner и J. Dewey.
5. Работа Jane Loevinger сыграла важную роль в разработке и проектировании моих исследовательских методологий. В частности, см.: Loevinger, Jane, R. Wessler, and C. Redmore. Measuring Ego Development, Vol. I, San Francisco: Jossey-Bass, 1970. Measuring Ego Development, Vol. II, San Francisco: Jossey-Bass, 1970. Loevinger, Jane. Ego Development: Conceptions and Theories. San Francisco: Jossey-Bass, 1976. «The Meaning and Measuring of Ego Development.» In the American Psychologist, 1966, pp. 195-206. «Construct Validity of the Sentence Completion Test of Ego Development,» in Applied Psychological Measurement, 3, 1979, pp. 281-311.)
6. Другие описания эстетического развития можно найти в работах следующих авторов: J. M. Baldwin, которого многие считают отцом эпистемологии и который написал основополагающие труды о развитии эстетического мышления; Baldwin, James Mark. Thought and Things: A Study of the Development and Meaning of Thought or Generic Logic, (Volumes III and IV). New York: Arno Press, 1975; Brunner, Cornelia. Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, 1975. "Aesthetic Judgment: Criteria Used to Evaluate Representational Art at Different Ages.” a thoughtful description of aesthetic judgments; J.R. Clayton, University of Utah, 1974. "An Investigation into the Developmental Trends in Aesthetics: A Study of Qualitative Similarities and Differences in Young."; Coffey, A.W. Dissertation Abstracts International, 29, (12b), 1968. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Massachusetts. "A Developmental Study of Aesthetic Preferences for Realistic and Nonobjective Paintings.", Murphy, Dennis Thomas. Unpublished doctoral dissertation, Hofstra University, 1973. "A Developmental Study of the Criteria Used by Children to Justify Their Affective Response to Arts Experiences." and M. Parsons. How We Understand Art: A Cognitive Developmental Account of Aesthetic Experience, Cambridge University Press, 1987, а также различные более ранние статьи по эстетическому развитию.
7. Разработанная нами учебная программа называется «Стратегии визуального мышления» (Visual Thinking Strategies — VTS). Подробнее см. библиографию на нашем сайте: http://www.vtshome.org.
8. Полный список наших исследований см. в справочнике исследований VUE на нашем сайте: http://www.vtshome.org.
9. См. главы I, III, VII в книге Alfred North Whitehead. The Aims of Education and Other Essays. New York: The Free Press, 1929.
Housen, A. (1997). Eye of the Beholder: Research, Theory and Practice. Paper presented at the conference of "Aesthetic and Art Education: a Transdisciplinary Approach," sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation, Service of Education, September 27-29, 1999, Lisbon, Portugal.